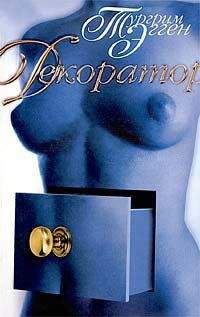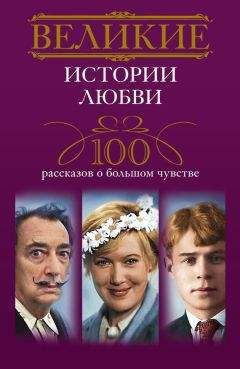Тургрим Эгген - Hermanas
В большом и почти заросшем дворе под огромными лиловыми и белыми бугенвиллеями были развешаны разноцветные лампочки и расставлены простые стулья и столы. В углу сада из деревянных столов был собран покосившийся бар. За барной стойкой стоял Рафаэль, который совершенно случайно являлся также редактором литературного журнала. Он торговал сигаретами, пивом и ромом.
Естественно, я пришел слишком рано. И один. Кто-то ведь должен приходить первым на подобные мероприятия; логично, что кто-то должен быть первым, но почему именно я? Пустой двор, за барной стойкой Рафаэль, который не помнил меня по предыдущим визитам, потребность выпить чего-нибудь, напряженные, трепещущие нервы. У меня были деньги на пиво.
— Да расслабься, народ придет. Народ всегда приходит, — сказал Рафаэль, подавая мне первую кружку.
Я сказал, что буду участвовать.
— Будет кому послушать, как ты опозоришься. Дай взглянуть на твои тексты.
Ни за что. К тому же он уже видел их раньше. Я читал стихи маме, которая очень разволновалась и попросила меня быть осторожным; я читал кошке, которая повернулась ко мне задом, не проявив совершенно никакого интереса, и удалилась через несколько строф; я читал зеркалу, которое тоже выглядело совершенно равнодушным и категорически отказалось смотреть мне в глаза.
Публика пришла. К тому времени, когда я выпил половину второй кружки пива, которое понемногу начинало производить желаемый эффект: я сидел и смотрел на бугенвиллеи и разноцветные лампочки, и вдруг все начало казаться таким красивым и мирным и совершенно не таящим в себе угрозы, — она стала собираться. Сначала появилась парочка, уселась в углу и начала перешептываться, потом громкая компания мужчин под предводительством поэта Луиса Риберо. Они расселись вокруг бутылки рома. Вот здесь, подумалось мне, я уже проиграл. Риберо побеждал всегда, когда выступал. Я слышал его раньше и считал надутым посредственным поэтом. А вот судьи этого не замечали.
Потом пришли еще люди. Зрители, нервные поэты, сжимавшие листки бумаги в потных руках, самоуверенные поэты, помнившие все наизусть, их возлюбленные, безгранично преданные и недосягаемые. Никого знакомого. Возможно, это и к лучшему.
Когда я взял третью кружку пива, я уже так дрожал, что едва мог удержать ее в руках, а сад заполнила публика, и кто-то занял мой стул. Я остался стоять у бара, а Рафаэль рассказывал, кто есть кто. Вон там, говорил он, указывая на двух седовласых мужчин у стола, сидят издатели. Они судят. Тогда я и почувствовал первый приступ тошноты, но мне удалось подавить его.
Потом я обошел двор по кругу, осторожно проскользнул вдоль колоннады, спрятанной в зарослях, немного послушал разговоры, поучился быть невидимым, потому что чувствовал, что в дальнейшем мне это пригодится. Примерно в это время весь поэтический сад начал кружиться, так что центробежная сила прижала меня к его краю. А потом я внезапно почувствовал сильный приступ тошноты и направился в пустой уголок. Я что, действительно ничего не ел? Из меня выливалось одно пиво, разбавленное какой-то ужасной кислотой.
— Аааааай! — произнес насмешливый женский голос. — Смотри под ноги, будь так добр. Ты испачкал мне туфли.
Это было правдой. Я посмотрел на туфли незнакомки: на матовой черной коже блестела моя желудочная слизь.
— Сможешь ли ты меня простить? — спросил я. Когда мои ноги перестали дрожать, я опустился на колени и, не обращая внимания на то, что стою в собственной блевотине, достал грязный носовой платок и вытер носки ее туфель. Я пока не осмеливался посмотреть ей в лицо. Сейчас были важны туфли. Я, не скупясь, начистил туфли своим желудочным соком. Красивые, но немного потрескавшиеся туфли.
— Все, достаточно, — сказала она. И я попробовал подняться.
Когда я в первый раз увидел лицо Хуаны, у нее было четыре глаза, два рта, расположенных один под другим, и невероятно длинный нос. При таких обстоятельствах было трудно определить, красивая она или нет, но я подумал, что она должна быть красивой, и так думаю до сих пор. Видел ли я одновременно Хуану и Миранду, как при двойной экспозиции? Но когда оба рта раскрылись, чтобы заговорить, они шевелились синхронно. Рты были мягкими и нежными и очень медленно слились в один. Хуана была leche con una gota de café, как мы говорим: молоко с капелькой кофе.
— Ты пьян или просто нервничаешь? — спросила она.
— У меня что-нибудь осталось на одежде? — было первым, что я смог произнести.
— Нет, но осталось на подбородке. Дай-ка мне это, — сказала она и потянулась к моему носовому платку. Она вытерла мне лицо, то ли нежно, то ли снисходительно, как мать утирает испачкавшегося ребенка. От платка воняло кислятиной.
— Большое спасибо. Я буду читать стихи, — выговорил я.
— Ты что, большой поэт? — спросила она. — Скажи да, скажи, что я вытираю блевотину с губ великого поэта. Тогда мне будет о чем рассказать.
— Я самый ничтожный и напуганный поэт в мире, — ответил я довольно честно.
— Ну все равно есть о чем рассказать, — улыбнулась она.
— Ты интересуешься поэзией? — спросил я, желая продолжить разговор. Это было лучше, чем альтернатива — тошнота и нервозность.
— Может быть, — сказала она и засмеялась. — Я интересуюсь людьми. Больше, чем поэзией, думается мне. И я живу здесь поблизости.
Начался конкурс, и наш разговор прервался. Я вытянул четвертый номер и стоял, с замиранием сердца слушая своих соперников. Сначала вышла молодая женщина; она заметно нервничала, совсем как я. Слова застревали у нее в горле, казалось, что она хочет нашептать секретные признания тайному любовнику, хотя на самом деле она пыталась прочитать стихотворение о народной гордости и непокорности и о том, какая сила живет в крестьянах и рабочем классе. Но ей самой этой силы явно не хватало. Кто-то выкрикнул, чтобы она шла домой упражняться, и тут она совершенно остолбенела. Это выглядело ужасно, и я немного утешился. Значит, я был не единственным новичком. Я повернулся, чтобы сказать несколько саркастических слов девушке, с которой разговаривал и которую облевал, но она исчезла.
Вторым номером был Луис Риберо. Он прочитал длинное и неискреннее восхваление El Comandante[2] настолько громко и самоуверенно, насколько тихо читала выступавшая перед ним запинавшаяся девушка. Я уже слышал это стихотворение в его исполнении и был раздосадован. Особенно меня раздражало, как Риберо нараспев декламировал «Санта-Кла-а-ара», будто географическое название само по себе было поэтической строкой, выражением, наполненным глубоким смыслом, расшифровывать который не было нужды. Это звучало просто-напросто помпезно. Он сорвал овацию, понятное дело.
Следующий участник не оставил вообще никакого впечатления, потому что я уже находился в своем собственном мире, наедине со своим текстом, со стихотворением, которое посвятил своему отцу. Я назвал его «Плая-Ларга», но название не было окончательным, название никогда не бывает окончательным до тех пор, пока не будет опубликовано. В нем рассказывалось о том долгом апрельском дне, когда мой отец истекал кровью, лежа на песке, сражаясь против империалистических интервентов. Я старался избегать дешевых лозунгов для разжигания ненависти и использования слов типа gusanos[3] применительно к армии интервентов; в моем произведении были только солнце, песок, кровь, цвет хаки, грохот и боль. Конечно, это было революционное стихотворение, но в нем не навязывалось никаких ответов и ничего не разжевывалось, как в произведениях выступавших передо мной поэтов, в нем были спокойные ритм и рисунок. Мое стихотворение не размахивало флагами. В нем рассказывалось о моем отце, а не о человеке, которого большинство людей видело только на фотографиях.
Я был более или менее уверен в том, что мои стихи неплохи. Загвоздка, причем довольно значительная, была в том, что я никак не мог прочитать их. Язык и нёбо слиплись, словно между ними проложили лист табака, а рука, в которой я держал мятый листок бумаги, так тряслась, что буквы исполняли невообразимый танец меренге.
— Громче! — прокричал кто-то. — Мы ни хрена не слышим!
— Сопливый щенок! — раздался другой голос, вызвавший у кого-то истерический хохот.
И я начал читать сначала. Я видел, что другие поступали так же. И подумал: «Ну а чего я, собственно, боюсь? Это просто полупьяная компания в полупустом маленьком дворике в Ведадо, это просто пригоршня слов…» И наконец голос прорезался. Он не был уверенным, не был звучным, но он, во всяком случае, присутствовал и приносил пользу до тех пор, пока я не дочитал свое стихотворение и не опустился на стул, подставленный каким-то сердобольным слушателем. Мне даже аплодировали. Так что меня как минимум расслышали. А потом погасло электричество, и этим была поставлена ироничная точка.