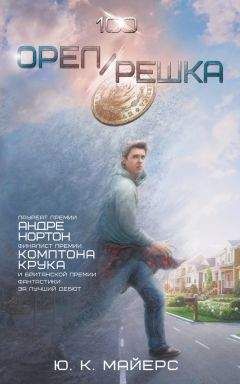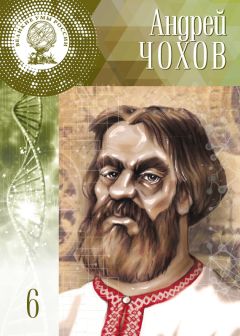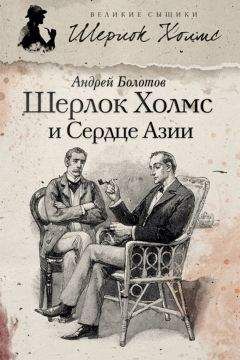Андрей Макин - Французское завещание
Вот так мы поняли, что бабушка скрывает от нас свои слезы, и угадали, что до нашего деда Федора в ее сердце когда-то существовал далекий возлюбленный – француз. Да, удалой офицер Великой армии, который вложил в руку Шарлотты шершавый осколок «Вердена». Это открытие нас потрясло. Мы почувствовали, что нас с бабушкой объединила тайна, в которую ни один из взрослых членов семьи, быть может, не был посвящен. За датами и историями, сохраненными семейным преданием, мы расслышали теперь биение жизни во всей ее скорбной красоте.
Вечером мы подсели к бабушке на маленький балкон ее квартиры. Весь в цветах, он, казалось, нависал над жарким маревом степей. Раскаленное медное солнце коснулось горизонта, мгновение поколебалось, потом быстро село. В небе замерцали первые звезды. Вечерний ветер донес до нас крепкие, пронзительные ароматы.
Мы молчали. Пока было еще светло, бабушка чинила блузку, разложенную на коленях. Потом, когда воздух налился ультрамариновой тенью, она подняла голову и, отложив рукоделие, устремила взгляд вдаль, на туманную равнину. Не смея прервать молчание, мы время от времени украдкой косились в ее сторону: поведает ли она нам какую-нибудь еще более сокровенную тайну или принесет лампу под бирюзовым абажуром и, как ни в чем не бывало, станет читать вслух что-нибудь из Доде или Жюля Верна, которые так часто делили с нами длинные летние вечера? Сами себе в том не признаваясь, мы подстерегали ее первое слово, ее интонацию. Наше ожидание – ожидание зрителя, наблюдающего за канатоходцем, – было смесью довольно жестокого любопытства и смутной неловкости. У нас было такое чувство, будто мы пытаемся расставить западню этой женщине – одной против нас двоих.
А она, казалось, не замечает нашего выжидательного присутствия. Руки ее все так же неподвижно лежали на коленях, взгляд терялся в прозрачности неба. На губах играла тень улыбки…
Мало-помалу мы отдались этому молчанию. Перегнувшись через перила балкона и расширив глаза, мы старались обнять взглядом как можно большее пространство неба. Балкон потихоньку раскачивался, уходил из-под наших ног, поднимался в воздух. Горизонт приближался, словно мы устремлялись к нему, пробиваясь сквозь дыхание ночи.
Как раз за его чертой различили мы это тусклое свечение – как бы чешуйки маленьких волн на поверхности реки. Мы недоверчиво всматривались в темноту, которая затопляла наш парящий балкон. Да, ширь темной воды искрилась в недрах степи, поднималась, распространяла едкий запах ливней. Ее гладь, казалось, освещается все ярче – матовым зимним светом.
Теперь из этого фантастического разлива стали выступать группы черных домов, стрелы соборов, стволы фонарных столбов – целый город! Огромный призрачный город, гармоничный, несмотря на воду, заливающую его проспекты, рождался у нас на глазах…
И тут мы вдруг осознали, что кто-то уже некоторое время что-то нам говорит. Это говорила наша бабушка!
– В ту пору мне, наверно, было столько, сколько вам сейчас. Случилось это зимой 1910 года. Сена превратилась в самое настоящее море. Парижане перемещались на лодках. Улицы стали похожи на реки, площади – на широкие озера. Но больше всего удивляло меня безмолвие…
Сидя на нашем балконе, мы слышали это сонное безмолвие затопленного Парижа. Изредка всплеск волн, когда проплывала лодка, приглушенный голос где-то в конце ушедшей под воду улицы.
Из волн, подобная туманной Атлантиде, всплывала Франция нашей бабушки.
2
– Даже Президент вынужден был есть холодную пищу!
Такова была первая реплика, прозвучавшая в столице нашей Франции-Атлантиды. Мы воображали почтенного старца с белоснежной бородой (в его внешности благородная представительность нашего прадеда Норбера сливалась с фараоновой важностью Сталина), сидящего у стола, на котором печально горит свеча..
Новость сообщил тот сорокалетний человек с живыми глазами и решительным выражением лица, который был изображен на самых старых фотографиях из альбома бабушки. Причалив в лодке к стене дома, он по приставной лестнице взбирался на одно из окон второго этажа. Это был дядя Шарлотты, Венсан, репортер газеты «Эксельсиор». С тех пор как началось наводнение, он бороздил таким способом улицы столицы в поисках ключевой новости дня. Холодная пища Президента оказалась одной из таких новостей. Именно с лодки Венсана и была снята потрясающая фотография, которую мы рассматривали на пожелтелой газетной вырезке: трое мужчин в утлой лодчонке плывут по громадному водному пространству, обведенному домами. Подпись под фотографией поясняла: «Г-да депутаты отправляются на заседание Национального собрания».
Перешагнув через подоконник, Венсан спрыгивал прямо в объятья своей сестры Альбертины и Шарлотты, которые нашли у него приют во время своего пребывания в Париже… Безмолвная до этого мгновения Атлантида наполнялась звуками, чувствами, словами. Каждый вечер рассказы бабушки высвобождали новую частицу этого поглощенного временем мира.
И было еще это потаенное сокровище. Чемодан, набитый старыми бумагами; когда мы отваживались забраться под большую кровать в комнате Шарлотты, он томил нас своей непроницаемой массой. Мы открывали замки, мы поднимали крышку. Какая уйма бумажек! У нас перехватывало дыхание от затхлости и пыли, которые источала взрослая жизнь во всей ее скуке и тревожной серьезности… Могли ли мы предполагать, что именно в этом ворохе старых газет бабушка отыщет для нас фотографию трех депутатов в лодке?
…Это Венсан привил Шарлотте вкус к журналистским очеркам, научив ее вырезать из газет и собирать эти скоротечные отражения действительности. Со временем, наверно думал он, они приобретут особенную ценность, как серебряные монеты, покрытые патиной веков.
В один из таких летних вечеров, напоенных пахучим дыханием степей, слова какого-то прохожего под нашим балконом оторвали нас от наших грез.
– Да клянусь тебе, это сказали по радио: он вышел в космос! А другой голос, удаляясь, с сомнением возразил:
– Ты что, за дурака меня принимаешь? «Вышел…» Куда там выйдешь-то, наверху? Это все равно что без парашюта с самолета прыгнуть…
Подслушанный спор вернул нас к действительности. Вокруг простиралась гигантская империя, черпавшая особенную гордость в исследовании бездонного неба над нашей головой. Империя с ее грозной армией, с ее атомными ледоколами, взрезающими Северный полюс, с ее фабриками, которые вскоре станут производить больше стали, чем все страны мира, вместе взятые, с ее хлебными полями, колосящимися от Черного моря до Тихого океана… С этой бескрайней степью.
А на нашем балконе француженка рассказывала нам о лодке, плывущей по затопленному городу и причаливающей к стене дома… Мы встряхивались, пытаясь понять, где же мы находимся. Здесь? Или там? Шепот волн замирал в наших ушах.
Уже не в первый раз замечали мы это раздвоение в нашей жизни. Жить возле нашей бабушки само по себе означало существовать в другом мире. Проходя по двору, Шарлотта никогда не присаживалась на скамейку, где сидели «бабули» – явление, без которого невозможно представить себе ни один русский двор. Это, однако, не мешало ей самым дружеским образом с ними здороваться, осведомляться, как себя чувствует та, кого несколько дней не было видно, и оказывать им мелкие услуги, например давая совет, как избавить соленые рыжики от кисловатого привкуса… Но обращаясь к ним с этими дружелюбными словами, Шарлотта продолжала стоять. И старые дворовые кумушки мирились с этим различием. Все понимали, что Шарлотту все-таки нельзя без оговорок назвать русской бабулей.
Это вовсе не означало, что она держалась особняком или подчинялась каким-то социальным предрассудкам. Рано утром нас, спавших крепким детским сном, будил иногда звонкий крик посреди двора:
– Приходи за молоком!
Сквозь сон мы узнавали голос и в особенности интонацию молочницы Авдотьи из соседней деревни. Хозяйки с бидонами спускались во двор к двум огромным алюминиевым емкостям, которые эта крепкая крестьянка лет пятидесяти тащила от дома к дому. Однажды, разбуженный криком Авдотьи, я больше не уснул… И услышал, как тихонько хлопнула наша входная дверь и в столовой послышались приглушенные голоса. Спустя минуту один из них в блаженной расслабленности выдохнул:
– Ох, до чего же хорошо у тебя, Шура! Прямо будто на облаке лежишь… Заинтригованный этими словами, я выглянул за занавеску, отгораживавшую нашу комнату от столовой. Авдотья лежала на полу, разбросав руки и ноги и прикрыв глаза. Все ее тело – от босых запыленных ног до разметавшихся по полу волос – вкушало глубокий покой. Рассеянная улыбка блуждала на ее приоткрытых губах.
– До чего же хорошо у тебя, Шура! – тихонько повторила она, называя бабушку уменьшительным, которым окружающие, как правило, заменяли ее необычное имя.