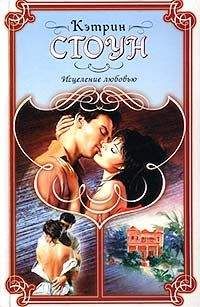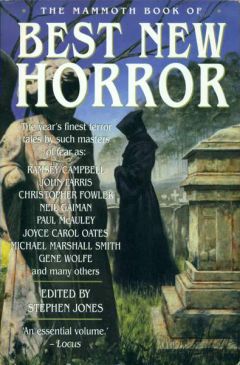Жемчуга - Гусева Надежда
Весело было, да.
Огонь – он живой. Его нам Бог дал.
Небо стало свинцовым, опустилось до самых крыш и придавило, причмокнуло, отрезало пути. День за днем сыпал снег.
Деда исчез на два дня, а потом явился под вечер – свежий и румяный, с двумя большими сумками. В сумках были валенки, крашенная под леопарда шубейка, меховая шапка, шерстяные гамаши и носки. А еще конфеты – целый пакет. Все мне.
Аглая тоже уходила, но ненадолго. Она приходила с мороза, потирала тонкие руки и сразу ставила чайник на плиту.
Иногда мы гуляли вместе – шли до магазина или до автостанции. Но никогда не ходили в поселок с черными домиками. Туда я ходила одна.
Часто, глядя на угольки в печи, Аглая начинала петь. Она пела, закрыв глаза и покачиваясь. Песни были похожи на сполохи алого огня, что пляшет по уголькам, на вой ветра в старой трубе, на метель. Мне хотелось от них плакать, но я не плакала, а крепче прижималась к Аглае, обнимала ее за костлявые бока.
А еще она рассказывала. И непонятно было – сказки она говорит или вспоминает былое.
Вот, говорят, в одной деревне жила старуха-чеваханя, злая ведьма. Был у нее сын, хороший парень. А она-то никого не любила, никого во двор не пускала, а сама только вечером выходила. Встанет, заклинание пробормочет, а потом повернется вокруг себя и превращается в свинью. И всем, кто к ее дому идет, начинает эта свинья под ноги бросаться. Собьет на землю и давит, катается. Да так, что чуть не до смерти, покалечить могла… А сын у старухи красавец был…
Жутко и чудно было перед самой ночью, когда Деда уходил к себе, а Аглая сажала меня на табуретку, вынимала головешку из печи и с причитаниями ходила кругом. Это она уводила прочь черную воронку – дула на мою голову, бормотала, шептала, иногда срываясь на русский:
Иди, иди прочь! Кто переступит мою тень,
У того пусть и будут боли, а у моей чяери – нет-нет-нет!
И воронка оставила меня в покое, ушла навсегда туда, куда послала Аглая, ушла вслед за горьким дымом тополевой головешки.
Иногда к нам наведывались люди – под вечер, с оглядкой. Они забирались на завалинку и трусливо стучались в окошко. Выходила Аглая, тихо говорила, иногда что-то брала и отдавала, иногда говорила «нет-нет» и быстро уходила. А гости, в основном тетки средних лет, все топтались и иногда стучали снова, что-то кричали…
Поселок будто вымер. Изредка по улицам пробегали подмерзшие школьники, бабы гремели ведрами на заледенелых колонках, два раза в неделю у сельмага выстраивались хмурые очереди, был привоз.
А у цыган было весело, людно, громко. Я быстро привыкла к перловому супу и лепешкам, к обществу чумазых ребятишек, к запаху нестираных пеленок и сопрелого пота. В чулане стояла огромная кастрюля с мутной бражкой. Старший внук хозяина таскал ее оттуда ковшом и смотрел как мы, мелкие, пьем, хмелеем и дуреем. Выходил старик, отменно ругался, грозил длинной палкой, но никогда никого не бил. А вот толстая Азя могла запросто огреть мокрой тряпкой. Мы хохотали и убегали прочь со двора.
Язык не нужно было учить. Он давался без всякого труда, все равно как примерка другого платья. Через пару месяцев я так же чисто чесала по-цыгански, как и материлась. Деда пытался со мной поговорить, но я совершенно не понимала, почему я не могу изъясняться так, как удобно. И он махнул рукой. Аглая же ни в чем меня не ограничивала. Только если я задерживалась и приходила в темноте, в мороз и метель, с застывшими руками и деревянными ногами, она кидалась ко мне, прижималась, тормошила, отдирала ледяные корочки от штанов, судорожно целовала, ласкала и тихонько плакала. Эти минуты были самыми близкими и радостными.
Потом Деда снова исчез. Его не было две недели. За это время случилось многое.
5
А вот еще бывает – младенец кричит да кричит. А то заболеет так, что никакие врачи не помогут. Да что они, врачи, умеют-то! Ходила я ко врачам…
Так вот. Это его духи мучают. Либо чеваханя какая порчу навела. Либо мертвого в семье недавно схоронили, а он с долгами ушел, дела не доделал. Всякое бывает. А бывает, что мать, пока беременная ходила, злобу на кого имела. Нельзя на людей-то злиться, нельзя.
Ничего, можно помочь. Надо ему, маленькому, заново родиться. А как он заново родится, не будет на нем обиды никакой. Чистый будет, как снег.
Сначала ударили морозы.
Потом у нас подожгли дровяной сарай.
Среди ночи окна озарились желтыми сполохами. Горело славно. Хорошо, что сарай стоял далеко от дома, в огороде, а погода была морозная и безветренная – искры не долетали до дома, устремлялись к звездному небу и там медленно парили, теряя свои маленькие ослепительные жизни.
Аглая кинулась по снегу, теряя тапочки. Она воздела руки и издала странный вопль – не то визг, не то вой. Я в одной ночной рубашке стояла на крыльце и не замечала холода.
Пожарная команда прибыла слишком поздно. Мы лишились всего запаса дров. Будь Деда дома, это не стало бы проблемой. А от Аглаи толку было мало. Она ходила как помешанная, натыкалась на углы и бормотала. Только под вечер мы отобрали годные головешки и затопили печь.
– Почему дрова пожгли, а? – спрашивала я, оттирая от рук сажу.
– Не любят нас, вот и пожгли, – ответила Аглая равнодушно, беззлобно.
– А почему не любят?
– Да кто ж их знает…
А через несколько дней к нам принесли ребенка.
Среди ночи я вскочила в кровати. В окно отчаянно стучали. Аглая прошлепала тапочками.
В дом, все в морозном облаке, ввалились, притопывая, две фигуры. В руках первой был сверток.
– Мама, пошли домой, мама, стыдно, мама, уйдем, – монотонно бубнила вторая.
– Тихо ты, – хрипло сказала первая. И заплакала.
На пол упали заиндевелые шубы. Аглая затопала, засуетилась. И сразу стала другая. Я притаилась за печью и смотрела, как она, что-то бормоча, мечется по комнате и делает странные вещи.
На стол высыпалась мука, налилось молоко и масло. С размаху, пригоршней – соль. Тесто творилось – крутое и теплое. В печи пылали остатки наших дров. Скалка быстро раскатывала тесто.
– Подай, – сказала Аглая.
Сверток оказался на столе. Одеяльце и пеленки упали на пол. Ребенок был маленький, худой и синий. Ручки и ножки безжизненно свисали.
– И-и-и… – завыла молодая женщина.
– Тихо.
Раз – и Аглая уложила крошечного мальчика внутрь, как начинку пирога, и ловко защипала края.
– Не-е-ет! Не надо! – заорала молодая.
– Уйди ты. Штыл! [14] – тихо приказала Аглая.
И та послушно отошла, все еще протягивая руки.
– Мара, лопату.
Я вздрогнула, кинулась за печь и протянула большую плоскую лопатку.
Аглая забормотала, зашевелила тонкими пальцами, а потом подхватила лопатой пирог с малышом и сунула в печь. Пламя охнуло и сомкнулось над тестом. Из печи пахнуло небывалым жаром. Аглая вытащила ребенка и сунула вновь – еще глубже. А потом еще раз – так глубоко и сильно, что золотые искры роем ворвались в комнату. Запахло жженой мукой.
И наконец бросила свой страшный хлеб на стол и занесла над ним нож.
Непропеченные корки разверзлись. И тут ребенок заорал.
Он кричал – пронзительно и сильно, но в этом крике не было боли. Он сучил ножонками и тянул ручки. Аглая подняла его над головой – розового, заходящегося в возмущенном плаче, внимательно осмотрела и сунула матери.
– Покорми.
– У меня молока нет.
– Есть. Корми.
На табуретке чмокал малыш. Его мать улыбалась. Бабушка утирала слезы краем платка.
– Сердце у него больное… Как родился… Ну, и сразу сказали – не жилец. Что только, к кому только…
– Хорошее у него сердечко, – сказала Аглая. – Как зовут?
– Николай. Коля.
– Другое имя дайте. Надо, чтобы была буква «р». Кирилл – хорошо.