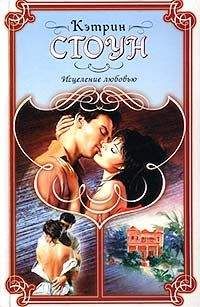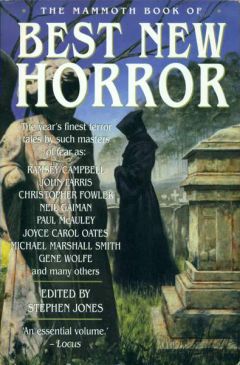Жемчуга - Гусева Надежда
– Деда, а где мы живем?
– Такой вот поселок, – Деда взмахнул рукой. – Называется Прибой.
Прибой! Я засмеялась. Слово-то какое!
– А ты кто?
– Ну… я на заводе бухгалтер.
Я залилась смехом.
– А Аглая тоже бухгалтер?
– Аглая? Нет.
– А кем она работает?
Теперь улыбнулся Деда.
– А ты бедовая! Все тебе сразу скажи да расскажи. Пошли-ка в магазин, мороженое купим. Мороженое любишь?
– Ага!
4
Была я у родителей девочка умная да красивая. Вот выросла и говорю: «Не хочу замуж за цыгана, у меня в городе есть камлытко [10], он гаджо, не наш». Как так?! Родителей не слушать?! Как не пойдешь?! Пойдешь. И сосватали. А жених-цыган по лесу ехал, на него лесина и упала, насмерть повалила. Опять говорю: «Отпустите меня в город к другу моему. Он человек хороший, взрослый». Куда там! Не пустили, снова сосватали. А новый-то жених на свадьбу ехал, да в грозу попал. Ударило в него так, что убило вместе с конем.
Поняли тогда родители – надо отпустить, неспроста это. Но затаили обиду – дочь не к своим ушла. А разве можно на свою кровиночку обиду держать? Ушла девушка, замуж вышла, а деток Бог не дал. Так-то против родителей идти. Потом-то они уж простили, да поздно было.
Я обнаружила их так, как заблудившиеся птицы находят путь в теплые края. Целый день бегала по овражкам и рощицам, лазала в чужие огороды и бросала камешки в болото. Голод звал к теплому чайнику и краюшке хлеба с вареньем, а холодные ноги – к печке и сухим носкам, но я упорно карабкалась по чужим заборам, возилась в скользкой глине и грела грязные руки, засовывая их в рукава пальто.
Я почуяла их издалека и пошла на терпкий запах, на горький дымок, на тусклый свет незанавешенных окон.
Темные дома стояли в низинке. Сизые печные дымки уносило ветром. Студеный ветер трепал белье на веревке.
Я оглянулась назад. Прибоя не было видно, я ушла так далеко, как еще не уходила. Другие родители давно бы бегали окрест с криками. Но только не Деда и Аглая.
С самого начала стало понятно, что эти облезлые жилища отличаются от тех, что я видела. И уж, конечно, не своим внешним видом – видала я в Прибое и похуже. Нет, тут было что-то иное. Потоптавшись сапогами по грязи, я стала спускаться вниз.
И тут мне в лицо влепился ком холодной глины.
От неожиданности я упала задом на землю, а пока протирала глаза, в меня полетели другие комки – еще и еще. Я заревела в голос, встала на ноги и, вместо того чтобы бежать прочь, помчалась к темным домам, откуда меня так метко бомбардировали.
Еще один комок шлепнулся под ноги, другой задел и без того грязную руку.
Я закричала и схватила придорожный камень.
Камень свистнул в воздухе. Наступила тишина. Потом послышался протяжный обиженный плач.
– На кэр акадякэ! [11] – крикнул женский голос.
Я стояла посреди дороги и протирала кулаками глаза. Из-за кустов показалась толстая женщина в пышной юбке с грязной кромкой. Из-под косынки висели тонкие косы, в руке тлела папироса.
– Йав кэ мэ! [12]
Я не двинулась с места. Тогда она сама взяла меня за руку и повела во двор, что-то приговаривая и прищелкивая языком. Я только оглядывалась по сторонам.
Набежали еще две женщины, помоложе; появились ребятишки, целая куча – худые, крикливые, грязные; вышел кудрявый старик с палкой; залилась лаем маленькая черная собачка. Старик бранился на ребят. У одного мальчика шла носом кровь. Толстая женщина подвела меня к бочке во дворе, отмыла мне лицо обжигающе холодной водой и утерла жестким полотенцем. От полотенца пахло кислым молоком.
– Пхэн, конэскиро ту? [13] Ты откуда? – спросила женщина.
Я по-прежнему молчала.
– Да Ольховских она, – хрипло сказал старик.
И все сразу замолчали. А потом загалдели наперебой, стали осторожно трогать мою одежду, отрывать налипшие кусочки глины, щелкать языком. Кто-то сунул мне кусок лепешки, и я тут же принялась жевать. Толстая женщина подала кружку теплого молока.
– Тебе сколько лет? – спросила худая девочка.
– Шесть.
– Не-ет. Мне шесть, а ты большая, вон какая!
И все засмеялись.
Тут жили цыгане. Давным-давно они бродили по городам и весям, знали толк в лошадях и кузнечном деле, пели и плясали на ярмарках. Но даже в те незапамятные времена для большинства обывателей были как палка в колесе. Теперь же их привычная жизнь окончательно поломалась, и они принялись медленно деградировать, забывая нехитрые ремесла и все больше и больше соблазняясь легкими деньгами преступной наживы.
Не стоило сгонять их в колхозы. Не стоило расселять по унылым деревням и поселкам. Народ, привыкший всю жизнь шевелить ногами по бесконечным дорогам и впитывать их музыку, сразу опустился и угас. Исчезли кони с бубенцами. Медведи пошли на шапки скорнякам. Утих стук походных кузен, а потом исчезли и сами кузнецы – в цыганских поселках мало мужчин.
В таборе жили как умели – часто и бестолково рожали детей, попрошайничали на базарах, таскали картошку у местных, торговали сивушным перегоном и относились с четко уловимым презрением к гаджо – всем не-цыганам.
Если не считать Деды и Аглаи, это были первые люди, которые приняли меня в свое общество – так просто, как некоторые позволяют чужой кошке бродить по двору и иногда, по настроению, гладят ее нечистую шерстку и кидают ей головы от кильки.
Старик сказал, что отведет меня домой, но тут подлетели худые чернявые дети. Они тормошили меня, что-то кричали на своем птичьем языке, а один мальчик сунул мне в руку облизанную карамель. Я совсем растерялась. Они предлагали мне играть, этого не делал никто, по крайней мере, я не могла вспомнить.
Это было чудо, шальное волшебство. Мы бегали и орали, верещали и смеялись. За занавеской пищал младенец, женщина добродушно ругалась густым прокуренным басом, опрокинулась лавка, отлетела табуретка, дед дал кому-то шлепка, за печкой звенела посуда.
Я и сама не заметила, как стала выкрикивать слова. Мне нравились они – громкие, острые, полные дикой музыки. Старик заметил это и потрепал меня по голове.
– Амари, амари. Наша.
– Амари! – крикнула я, а он засмеялся.
Потом мы ели, и было очень весело – стучать ложками, отрывать куски от лепешки, пинаться под столом. А в незанавешенные окна лился красный свет закатного солнца.
Старик сам отвел меня домой. Мы шли по полю, по искристой от инея земле, а над нами в темнеющем небе летели гуси – тяжело, низко, так что видны были их лапки, прижатые к серым брюшкам.
Аглая вышла на крыльцо, охнула, кинулась, обняла меня и прижала к себе. Старик степенно говорил на своем языке, поглаживал белую бороду, прищелкивал языком. Аглая его будто не слышала.
– Мара, Марочка моя, – шептала она, и по ее тонким морщинкам катились слезы.
И тогда я поняла, что люблю ее. Это было так просто, что я поразилась, как же мне раньше это в голову не приходило. Я люблю Аглаю и Деду. И никогда их не брошу. Они – мои. Наши. Амори.
– Парикирэс, – сказала, наконец, Аглая, подняв глаза на старика.
Они смотрели друг на друга – неподвижно и долго. Аглая благодарила не только за то, что меня привели домой. За что-то важное, куда большее, благодарила она.
А гуси все летели над нашими головами, перекликаясь – прочь, прочь. Их звали другие края.
4
А еще был у нас раньше праздник. Летом выпадал, по теплу. Садились все ночью вместе, а огня не жгли – ни костров, ни трубок, ни печек, ничего! Сидим в темноте, молчим, каждый свое думает. Это чтобы все помнили о темных временах, о злом и нехорошем не забывали. Ведь всякое бывает – голодают люди, болеют, мерзнут. И не едим поэтому ничего – ни лепешки, ни теплого чая. Нельзя громко говорить, нельзя петь. Даже дети не плачут. Темно, страшно, зябко. А как восходит солнце, наш старшой разводит костер, берет головешку да обходит нас кругом. Что тут начинается, ой! Все радуются, поют, пляшут, мясо готовят, лепешки пекут!