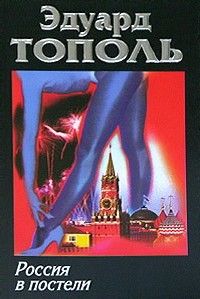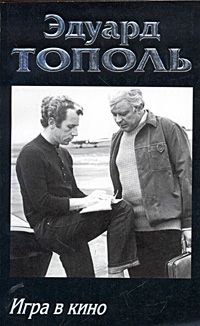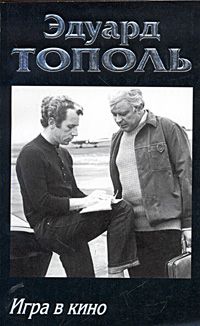Эдуард Тополь - РОССИЯ В ПОСТЕЛИ
«Грельщики» – это те мужчины, которые стоят в очередях не для того, чтобы купить импортную косметику или полкило мяса, а для того, чтобы как можно плотней прижаться к стоящей впереди женщине (или мужчине, это уже иная разновидность), упереться ей в зад своим напряженным под брюками, пенисом и так греться и тереться часами, пока движется очередь.
Кончилась одна очередь – перешел в другую, пристроился к другому заду и опять греется и трется в свое полное удовольствие совершенно бесплатно, как и полагается при социализме.
Теперь, когда я бегло рассказал о вкладе социализма в мировое развитие секса, вернемся к обычной проституции, которую, как оказалось, невозможно упразднить ни сталинским указом, ни принудительным повсеместным изучением «Морального кодекса строителя коммунизма».
Впервые я встретился с проститутками в городе Ленинграде, на Невском проспекте, в скверике у памятника русской императрице Екатерине Второй.
Мне было неполных восемнадцать лет, я приехал в Ленинград и в первый же день пошел гулять по центральной улице города – Невскому проспекту. Был яркий солнечный день, десятки красивых девочек гуляли по проспекту, завихряясь в короткие очереди у кафе и ресторанов.
Но я был по-студенчески беден и не мог пригласить ни одну из них ни в ресторан, ни в кафе, а потому, устав от бесперспективной прогулки, свернул в первый попавшийся скверик и сел на свободную скамью. Посреди сквера стоял высокий темно-зеленый памятник Екатерине Второй. Толстая, похотливая баба с круглым порочным лицом и отвисшими медными щеками, знаменитая русская императрица, трахавшая своих офицеров, возвышалась над зеленью сквера, а под ней… Батюшки-светы!…
Только усевшись на скамью и опустив взгляд с русской императрицы на грешную землю, я увидел то, что поразило мое мальчишеское воображение.
Густым хороводом кружили вокруг памятника тридцати и сорокалетние проститутки, а за ними почти вплотную шли моряки, солдаты, штатские командированные с портфелями и без таковых. Несколько коротких женских реплик через плечо, и вот уже из второго мужского ряда кто-то делает рывок вперед, берет под локоток свою избранницу, и они отваливают к выходу из сквера, а вокруг памятника длится круженье, вот двое солдат пристроились сзади к трем проституткам, поговорили и отстали, не сошлись в цене, наверно, и подстроились к другим, а вместо солдат к тем, дорогим, подошли офицерики – лейтенанты и увели сразу всю троицу.
А в сквер вливаются все новые силы, и тут же, если фигурка у проститутки ничего, со скамеек встают лениво покуривающие офицеры и устремляются в атаку – иногда просто наперебой.
Я помню, как вот так же вошла в этот сквер совершенно роскошная баба, тридцатилетняя жгучая брюнетка с полными бедрами на высоких красивых ногах, с грудью – мечта матроса и мраморной шеей над вырезом черного платья. Насмешливо улыбаясь, она шла одна, держа на согнутом локте дамскую сумочку, а в другой руке – веер.
Как воробьи на зерно, как собаки на жирную кость, кинулись к ней солдаты, матросы и командированные, но тут же отскакивали с уныло опущенными плечами и погасшим взглядом.
Кто– то рядом со мной проворчал на скамейке: «Полтинник стоит, сучка!»
А она продолжала идти по круглой аллее, вдоль скамеек, на которых сидели мужчины, и при ее приближении каждый член вскакивал как по команде «смирно».
Пава, королева разврата, принимала парад мужской похоти под сенью надменно улыбающейся развратной императрицы. Злыми, завистливыми глазами провожали ее остальные проститутки, очередные смельчаки-матросы набегали на нее, но тут же отскакивали от такой немыслимой в те годы цены «50 рублей», а она все плыла по скверу, как флагман, как неприступный крейсер.
И когда последние смельчаки отошли от нее, отлипли и она осталась одна, недоступно-дорогая и соблазнительно красивая, с дальней скамьи поднялся сорокалетний морской офицер с нашивками капитана дальнего плавания и золотым кортиком у пояса.
Я видел, как, вставая, он загасил сигарету, коротким жестом оправил китель и спокойной, властной походкой пошел навстречу этой Кармен.
Теперь весь сквер следил за ними. Вот они сблизились, она вскинула на него свои насмешливо-темные глаза, смерила его взглядом от головы до золоченого кортика и коротко сказала что-то, скорей всего – свою цену: 50 рублей. Он кивнул, пренебрежительно и легко, и тут же взял ее под оголенный локоток и так, под ручку, повел ее из сквера – думаю, прямо на свой корабль.
Площадь сникла. Словно кончился выход талантливой солистки, и на сцене опять продолжалось течение рутинного спектакля.
Я встал. Потной рукой сжимая в кармане единственную десятку, я уныло побрел по Невскому проспекту и в какой-то первой попавшейся закусочной заказал себе рюмку коньяка и апельсин. И сидя над дольками этого оранжевого апельсина, я дико, до злости, завидовал этому самоуверенному, красивому и богатому капитану дальнего плавания, который может вот так легко и насмешливо взять себе самую дорогую ленинградскую проститутку и в трехкомнатной капитанской каюте с мягкой мебелью и белым роялем иметь это сочное, развратное тело.
Мое злое, разгоряченное воображение рисовало дразнящие картины их похотливой ночи на корабле, тихо качающемся в волнах ленинградской гавани…
Я допил коньяк, изжевал апельсин и побрел на Литейный проспект к трамвайной остановке, и тут, на трамвайной остановке, какая-то худенькая, озябшая от вечерней сырости пигалица попросила у меня сигаретку. Я отдал последнюю сигарету, чиркнул спичкой и взглянул ей в лицо. Ей было лет девятнадцать, синие глаза смотрели на меня в упор, испытующе.
А трамвая все не было…
Мы молча курили одну сигарету на двоих, и я видел, что сигарета ее не греет, что ее худенькие плечики зябко жмутся под плечиками платья. Мне показалось, что я видел эту фигурку на Невском, в скверике у памятника Екатерине, на одной из дальних скамеек.
– Пошли пешком, – сказал я решительно и взял ее под локоть.
Она не противилась, и мы молча двинулись вперед, вдоль трамвайных рельсов, и тут я заметил, что она – хромоножка, и уже стал томиться и стесняться этого, но в эту минуту она вдруг освободила свой локоток и худенькой рукой обняла меня за талию, а мою руку положила себе на бедро. Теперь мы шли как бы обнявшись, но все так же молча, и я все не мог приноровиться к ее прихрамывающей походке.
«Конечно, все, что ты можешь себе позволить – вот эту никому не нужную хромоножку», – уничижительно думал я про себя.
Сзади шумный грохот трамвая стал догонять нас.
– Побежали! – сказал я ей и потянул ее к ближайшей трамвайной остановке, но она вдруг сказала: