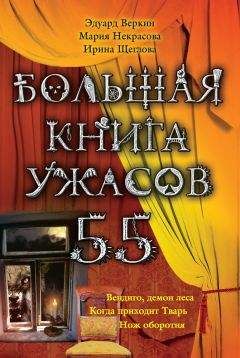Вильгельм Генацино - Зонтик на этот день
– Понятно, – говорит журналистка, – значит, вам нравятся иллюзии?
– Да, нравятся, – говорит фрау Балькхаузен. – Люблю иллюзии и миражи. Вот думаешь, сейчас смоет наконец всю эту дрянь! Ан нет, она никуда не девается, и более того, она возвращается на свое старое место. И ты понимаешь, что это было всего-навсего маленькое наводнение, не более того.
Журналистка смеется и опускает микрофон.
– Очень мило получилось, – говорит она.
– Вы это покажете?
– Обещать не могу, но вполне возможно.
– А когда?
– Сегодня в девятнадцать часов, в вечерних новостях.
Журналистка благодарит фрау Балькхаузен и переходит к следующим любителям наводнений. От восторга фрау Балькхаузен берет меня под руку.
– С ума сойти можно! – говорит фрау Балькхаузен, когда мы немного отошли от места ее выступления. – Я в самом деле сказала то, что думаю! Такого у меня еще в жизни не было!
Двухчасовой сеанс яркой жизни, на который она записалась ко мне, подошел к концу. Фрау Балькхаузен открывает сумочку и достает деньги. Она протягивает мне двести марок. Мой гонорар, как мы и договаривались. Не знаю, замечает ли она, какая борьба сложных чувств разыгралась во мне. Я прилагаю неимоверные усилия, чтобы близко не подпустить ни одной мысли. Безуспешно. Мне страшно неловко, фрау Балькхаузен начинает прощаться.
– Можно я вам еще позвоню, если что? – спрашивает она.
– Разумеется, – говорю я с каким-то идиотским рвением и еще киваю к тому же.
Фрау Балькхаузен идет налево, в сторону Южного моста, который еще не закрыт. У причала, который теперь почти весь уже скрылся под водой, толпятся зеваки. Только металлические перила выглядывают наружу. Эти качающиеся перила наверняка понравились бы фрау Балькхаузен. Полиция закончила работы по перекрытию моста. Телевизионщики сворачивают свою технику. Берег, который вдруг все в одночасье покинули, притягивает меня, как магнит. Особенно мне нравится деревянная лодочка, привязанная к дереву, которая теперь болтается на волнах. Лодка наполовину заполнена водой, и потому ей никак не всплыть. Странно, однако, что она не тонет. Глядя на нее, я думаю, вот так и я, не тону и не всплываю, застрял на полдороге, и тут же понимаю всю нелепость сравнения собственной жизни с этой лодкой. Боже ты мой, как мне действует на нервы эта моя привычка пытаться извлекать смысл из всего увиденного! Пора призвать себя к порядку, и мне кажется, будто я уже слышу, как говорю себе: лодка – это лодка и ничего больше. Вот показалась утка. Она плывет, как-то странно выставив наружу лапу. И хотя я только что как будто призывал себя прекратить свои упражнения в осмысленном разглядывании мира, я не могу удержаться от фразы, которую произношу про себя: «Батюшки мои, теперь у нас еще и утки-инвалидки появились!» Несколько секунд спустя утка возвращает лапу в нормальное положение и плывет себе дальше. Я подождал, пока фрау Балькхаузен удалится на безопасное для меня расстояние, и тоже двинулся в сторону Южного моста. Если бы мне сейчас захотелось выразить странность жизни, мне бы пришлось бросить свою куртку в коричневую реку. Для этого я бы сначала дождался того момента, когда я оказался бы на середине моста, и только тогда размахнулся бы как следует и запустил свою куртку в воду. Течение подхватило бы ее, и она плыла бы себе, а вокруг нее все бы хлюпало и булькало, и так к моему словарю добавились бы новые слова для обозначения странности жизни: хлюпанье и бульканье. За этими мыслями я не заметил, как дошел до Южного моста. Не успел я ступить на мост, как почувствовал непреодолимое желание и в самом деле швырнуть свою куртку в воду. Не знаю, почему я этого не делаю. Если бы мне представилась возможность посмотреть на свою куртку сверху (а она бы уже через какое-то время вся размокла, и только я один смог бы опознать в ней мою собственную куртку), если бы я имел возможность смотреть, как ее несет по течению, как она медленно кружится в воде, то мне бы удалось, быть может, постичь, как получилось так, что я вот только что благодаря нелепому недоразумению и такой же нелепой болтовне заработал двести марок. Но я оставляю свою куртку при себе, я мужественно принимаю на себя странность последних двух часов своей жизни и благополучно перекочевываю через мост. Единственное чувство, которое я испытываю сейчас, это чувство симпатии по отношению к собственной смерти, каковая, смею надеяться, пока еще далеко. Ну что ты сделаешь, опять я разродился очередным надуто-важным предложением! В действительности же я просто отметил факт собственной причастности к банальной общечеловеческой судьбе: в конце моей жизни меня ожидает смерть и ничего больше. Я даже знаю, почему я не бросил свою куртку в воду. Я не бросил ее потому, что, несмотря на все странности, я пока еще не сошел с ума. Страх сойти с ума был не чем иным, как страхом перед вынужденной капитуляцией. Я сворачиваю на оживленную Шамиссо-штрасе. Я благосклонно смотрю на царящую здесь деловитость. И только одна-единственная деталь, которую я не успел вовремя обойти взглядом, испортила мне все впечатление. Я вижу Химмельсбаха. Он идет по улице, толкая перед собой тележку на колесиках, как из супермаркета. В корзине у него рекламные проспекты. Он останавливается перед каждой парадной и засовывает в щель почтового ящика свои проспекты. Там, где нет ящиков, он наклоняется и пытается запихнуть пестрые бумажки просто под дверь. Мне приходит в голову ужасная мысль: Химмельсбах страдает за меня. С самого начала, с тех пор, как я стал свидетелем его неудач в Париже, его предназначением стало играть роль неудачника, которую он разыгрывал только для меня; он превратился в зеркало, чтобы путать меня моим собственным отражением. Я не могу с этим ничего поделать, я чувствую, как меня охватывает смятение и на глаза наворачиваются слезы. Я замедляю шаг и пытаюсь укрыться за припаркованными машинами. Я не хочу встречаться с Химмельсбахом и не хочу с ним разговаривать. Он не поймет меня, он не поймет себя, а у меня не будет сил, чтобы вразумительно объяснить ему, что меня так сейчас потрясло. Постепенно мне становится ясно, что мои слезы только сначала имели отношение к Химмельсбаху. Теперь они имеют отношение только ко мне. Ведь и я мог бы развозить эти дурацкие проспекты, если бы у меня не было другого выхода. А ведь я больше всего на свете боялся того, что в один прекрасный день мне придется публично демонстрировать свою безграничную сгибаемость. К счастью, снова начинают происходить дурацкие вещи. На помощь мне приходит опять Химмельсбах, который освобождает меня от потрясения, связанного отчасти со мною, отчасти с ним самим. Он уже второй раз наклоняется к зеркальцу на машине и причесывается. Химмельсбах, добродушно ворчу я про себя, ну что ты за человек, даже на свое убожество ты хочешь произвести достойное впечатление! Мое сочувствие не склонно разделять такие глупости. Я захожу в салон модной одежды, в котором установлен кондиционер, истребляющий из воздуха всю влагу. Я стою и жду, когда начнется осушение моих слез.
11
Поздним утром, в одну из сред, я снова собираю листья, которые разложил в бывшей Лизиной комнате. Недалек тот день, когда Сюзанна начнет ходить ко мне, когда ей заблагорассудится, и у меня нет ни малейшего желания обсуждать с ней (или с кем бы то ни было другим) изжитые причуды. На некоторых отдельных листьях откуда-то появлялись крошечные черные жучки, которые по прошествии какого-то времени скатывались на ковер и там, запутавшись в искусственных ворсинках, погибали. Впрочем, не все. Я обнаруживаю как минимум две особи размером не больше булавочной головки, которые еще живы и здоровы. Меня охватывает легкая паника. Я вытаскиваю из шкафа пылесос и принимаюсь пылесосить сначала Лизину комнату, потом коридор, потом все остальные комнаты. Со дня исчезновения Лизы я, кажется, впервые так основательно убираю квартиру. На это у меня уходит почти целый час. В итоге я весь взопрел и плюхнулся на стул, чувствуя себя совершенно опустошенным. Минут через пятнадцать из недр этой пустоты возникает воспоминание об одном моем детском развлечении, которому приблизительно столько же лет, сколько воспоминанию об игре в листья. Передо мною или во мне начинает разворачиваться в последовательности сцена, главным действующим лицом которой была дряхлая углевозка с открытым кузовом. Вот она выворачивает на нашу улицу, где тогда жили мои родители, и останавливается перед одним из домов. По виду это старая развалюшка с простейшим кузовом, у которого откидывались борта, то ли «опель-блиц», то ли довоенный «ханомаг». Из кабины вылезает шофер и его напарник, оба черные, как трубочисты. Они открывают тот борт, что ближе к дому, нахлобучивают на голову тряпочные чепцы, вроде капюшонов, еще чернее, чем их лица, и принимаются разгружать тяжелые мешки с брикетами, коксом и углем, которые они потом затаскивают в подвал. На каком-то этапе они решают попробовать засунуть мешки в подвал прямо с улицы через окно. Попытка сэкономить время заканчивается неудачей. От резких движений уголь частично высыпается из мешков, ударяется о стену дома и скатывается на тротуар, над которым стоит теперь черное облако угольной пыли. Именно в этот момент появляюсь я, четырнадцатилетний мальчик, заворачивающий из-за угла на свою улицу. Я слишком долго смотрю на разыгрывающееся передо мною действо. Довольно скоро я прихожу к выводу, что рассыпанный уголь есть не что иное, как раннее доказательство бездарности жизни, что не мешает мне, впрочем, одновременно радоваться распространению грязи. Я наблюдаю за угольщиками, пока они не заканчивают свою работу, и заранее радуюсь тому, что последует дальше. Из дома выходит женщина. В руках у нее веник, которым она пытается собрать угольную пыль. Сноровистостью она не отличается. Собрать ей ничего не удается, но зато она поднимает новые тучи черной пыли, хотя, справедливости ради, следует заметить, что в процессе подметания общее количество пыли в целом значительно уменьшается, пусть и не слишком быстро. Не меньше десяти минут подметальщица крутится на одном пятачке неутомимой серой тенью, окутанной облаком пыли, поднимаемым ею самой, что только подкрепляет мое ощущение бездарности жизни. Вместе с тем я прихожу в восторг оттого, что пыль оседает у женщины на голове и на платье. Во мне просыпается какое-то неведомое мне желание, которому я не могу найти объяснения. Где-то в середине наблюдаемой мною сцены мои глаза, которые всегда все переиначивают по-своему, превратили некоторую запыленность отдельного фрагмента жизни в пыльность жизни как таковой, что, к моему величайшему недоумению, воспринималось большинством людей совершенно спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Я уже не помню, какое у меня тогда сложилось мнение по поводу пыльной жизни. Вполне возможно, что уже в детстве я не мог вот так, без оговорок, принять эту пыльную жизнь. Мне нужно было еще с нею разобраться, провести через сложную, многоступенчатую процедуру признания, которая растянулась у меня на долгие годы и тянется по сей день, хотя, впрочем, уже и приближается к своему завершению, если меня не обманывает мой инстинкт. Только теперь, в этот самый момент, мне приходит в голову, что, может быть, именно тогда я впервые стал жертвой моей привычки извлекать смысл из разглядываемого. Мне тут же захотелось снова увидеть углевозку, выворачивающую из-за угла. С щемящим чувством я, как во сне, подхожу к окну в Лизиной комнате и смотрю вниз. В этот момент зазвонил телефон. Звонит какая-то женщина, представилась как фрау Чакерт.