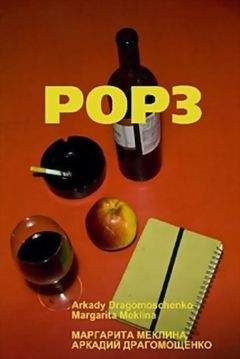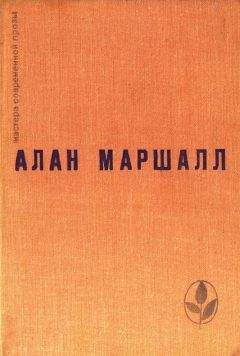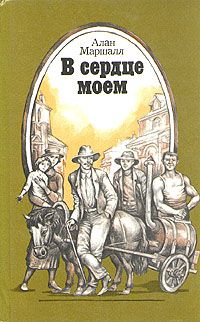Алан Маршалл - Я умею прыгать через лужи
Я почти всегда сопровождал его. Мы сидели рядом, с интересом наблюдая, как утки, опустив грудку, уходили в воду, потом скользили по поверхности пруда, а мелкие волны слегка ударяли и покачивали их. Доплыв до середины, они потягивались, хлопали крыльями, затем вновь усаживались на воду, с удовлетворением двигая хвостом и всем телом, прежде чем пуститься на поиски улиток и личинок, населявших пруд.
Джо полагал, что в пруду можно найти все, что угодно, но я этого не думал.
— Никогда нельзя сказать наверное, что там есть! — задумчиво говорил Джо.
В ветреные дни мы сажали целые команды муравьев в банки из-под консервов и отправляли их в дальнее плавание через пруд, иногда мы сами пускались вброд вдоль берега, разыскивая тритонов, этих странных, похожих на креветки существ с двигающимися жабрами.
Джо знал о тритонах много интересного.
— Они очень нежные, — говорил он. — Сразу умирают, если посадить их в бутылку.
Меня интересовало, куда же они деваются, когда пруд высыхает.
— А бог их знает! — говорил Джо.
Пока утки наслаждались, мы бродили по зарослям, разыскивая птиц, а если дело было весной, лазили на деревья за яйцами.
Я любил взбираться на деревья. Все, в чем я видел вызов своим силам, возбуждало меня, и я пытался совершать то, что Джо, которому не надо было доказывать свою физическую выносливость, вовсе не был расположен делать.
Лазая по деревьям, я пользовался только руками — ноги мои были почти бесполезны. Когда я подтягивался с ветки на ветку, «плохая» нога беспомощно болталась, а на «хорошую» можно было только опираться, пока руки схватывали верхнюю ветку.
Я боялся высоты, но преодолевал страх, избегая смотреть вниз, если в этом не было прямой необходимости.
Я не мог, как другие мальчишки, по-обезьяньи карабкаться по стволу, но умел на одних руках подниматься по веревке. Если нижние ветви дерева были слишком высоки для меня, Джо перебрасывал веревку через одну из них, и я подтягивался на руках до первого сука.
Если я взбирался на дерево в ту пору, когда сороки откладывали яйца, Джо обычно стоял под деревом и предостерегающе кричал, когда птицы готовились напасть на меня. Я карабкался по качающейся на ветру ветви, прижимая к ней лицо, и медленно подползал через развилины по буграм отставшей коры к темному круглому пятну, выделяющемуся на фоне неба среди листвы. Услышав крик Джо: «Берегись, вот она!» — я останавливался и, держась одной рукой, начинал отчаянно размахивать другой над своей головой, ожидая шума крыльев, резкого щелканья клюва и затем удара ветра в лицо, когда сорока вновь взлетала ввысь.
Если можно следить за птицами, не упуская их из поля зрения, когда они, скользя, ныряют вниз, — еще полбеды; тогда при их приближении нетрудно ударить их, и они сразу улетают, быстро взмахивая крыльями, успев лишь с яростью клюнуть тебя в руку; зато если ты находишься к ним спиной и руки нужны, чтобы держаться, то птице ничего не стоит сильно ударить тебя клювом или крыльями.
Когда это со мной: случалось, снизу раздавался полный тревоги голос Джо:
— Она тебя ударила?
— Да.
— Куда?
— В голову, сбоку.
— Кровь идет?
— Не знаю. Подожди, я ухвачусь покрепче и посмотрю.
Через минуту, освободив одну руку, я ощупывал ноющую голову и затем осматривал пальцы.
— Идет! — кричал я Джо, довольный и в то же время испуганный.
— Черт! Но тебе уже немного осталось. Не больше ярда… Вытянись… Чуть дальше… Нет… Немного вправо… Готово!
Я засовывал теплое яйцо в рот, спускался вниз, и мы, сблизив головы, рассматривали его на моей ладони.
Иногда я срывался, но обычно нижние ветви смягчали падение, и я никогда не ушибался сильно.
Однажды, взбираясь на дерево вместе с Джо, я, намереваясь схватиться за сук, промахнулся и ухватился за ногу Джо. Джо попытался освободиться, но я вцепился в него как клещ, и мы оба, ударяясь о ветви, полетели вниз и так и упали вместе на усыпанную корой землю, поцарапанные, но целые и невредимые.
Этот случай произвел большое впечатление на Джо. Вспоминая о нем, он часто говорил:
— Я никогда не забуду тот проклятый день, когда ты схватил меня за ногу и не хотел отпускать. Зачем ты это сделал? Ведь я кричал: «Отпусти!»
Я не мог дать ему удовлетворительного ответа, хотя чувствовал, что был вправе держаться за Джо.
— Не понимаю, — замечал он в раздумье, — тебе нельзя довериться, когда лезешь на дерево. Провались я на месте, если это неправда.
Джо постепенно научился относиться философски к тому, что во время наших совместных прогулок я часто падал. Как только я летел лицом вниз, или валился на бок, прежде чем растянуться во весь рост, или хлопался со всего размаха на спину, Джо усаживался и как ни в чем не бывало продолжал разговор, зная, что в течение некоторого времени я останусь лежать.
Я почти всегда чувствовал усталость, и падение являлось для меня предлогом отдохнуть. Лежа на земле, я брал сучок и копался им среди стеблей трав, разыскивая букашек или наблюдая за муравьями, торопливо снующими в туннелях под листьями.
Мы словно не замечали того, что я упал. Это не имело никакого значения, так как входило в процесс моей ходьбы.
— Остаешься жив — и это главное, — однажды заметил Джо, когда мы обсуждали, как и почему я падаю.
Когда я падал «плохо», Джо все равно быстро усаживался на землю. Он не спешил мне на помощь, если я не звал его, — этой ошибки он не совершал никогда. Пока я катался от боли по траве, он бросал на меня лишь один взгляд, потом решительно отводил глаза в сторону и говорил:
— Здорово!
Через минуту, когда я уже лежал спокойно, он снова смотрел на меня и спрашивал:
— Ну как? Пойдем дальше?
О моих падениях он говорил так, как говорят о своем скоте фермеры, когда во время засухи лошади и коровы падают и издыхают на сожженной земле.
— Еще одна корова свалилась, — говорят они. И Джо порой, когда мой отец спрашивал его обо мне, отвечал:
— Он свалился около ручья, а потом не падал, пока мы не дошли до самых камней.
Это был год большой засухи, и мы с Джо впервые по-настоящему узнали страх, боль и страдания, с которыми раньше никогда не сталкивались. Исходя из собственного опыта, мы считали, что мир — место приятное. Солнце никогда не бывало жестоким, и бог заботился о коровах и лошадях. Если животные страдали, то только по вине человека: в этом мы были твердо уверены. Мы часто размышляли о том, что стали бы делать на месте коровы или лошади, и всегда решали, что перескакивали бы одну за другой все изгороди, пока не очутились бы в таком месте, где вдруг одни только заросли и ни одного человека; там мы жили бы счастливо до самого конца и умерли бы, покоясь на мягкой зеленой траве в тени деревьев.
Засуха началась из-за того, что осенью не было дождей. Зимой, когда они пошли, земля оказалась слишком холодной, семена не дали ростков, а многолетние травы были все съедены до корней голодным скотом. Весна выдалась сухая, и, когда настало лето, на пастбищах, обычно покрытых зеленой травой, ветер поднимал тучи пыли.
Стада коров и лошадей, оставленных владельцами пастись у широких дорог, опоясывающих округу, бродили по окрестностям в поисках корма. Ломая заборы, они проникали на выгоны, еще более оголенные, чем дороги, чтобы сорвать засохшую былинку или ветку кустарника.
Фермеры не имели возможности прокормить старых лошадей, давно отправленных на покой в дальние выгоны, и не находя в себе мужества пристрелить животных, ставших неотъемлемой частью фермы, выпускали их на дорогу, предоставляя им самим находить корм. Фермеры покупали для них жетоны и считали свой долг выполненным.
Местные власти разрешили пасти на дорогах только скот с медными жетонами на шее; каждый жетон стоил двадцать пять шиллингов и давал право целый год пасти животное у дорог.
Летними ночами, когда лошади и коровы шли па водопой к придорожному водоему, позвякивание цепочек, которыми прикреплялись жетоны, слышалось издалека. Вдоль дорог, разветвлявшихся от места водопоя на протяжении многих миль, бродили небольшие стада коров и табуны лошадей; животные обнюхивали пыльную землю в поисках корней, съедали сухой конский навоз, оставшийся на дороге после лошадей, кормленных сечкой. Каждое стадо держалось обособленно, всегда двигаясь по одним и тем же дорогам, всегда обшаривая одни и те же лужайки. По мере того как засуха продолжалась и жара делалась все более невыносимой, стада и табуны становились все малочисленное. Каждый день слабейшие спотыкались и падали, а другие обходили облако пыли, указывавшее на тщетные усилия животного подняться; оставшиеся в живых все шли и шли, медленно волоча ноги, опустив головы, пока жажда не заставляла их повернуть и снова пуститься в долгий обратный путь к месту водопоя.