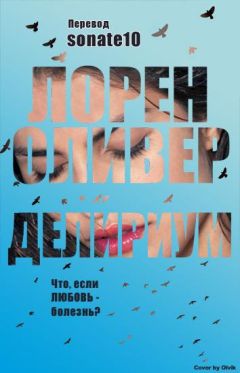Давид Гроссман - Будь мне ножом
У него не было полной уверенности в том, что она это сказала. Может быть, они говорили о фильме, который смотрели, и цитировали что-то оттуда, или просто сказали «какой у Симы бантик», или «мой синий чемоданчик», или вообще говорили о другом мальчике, которого обе знали, и которому это определение действительно подходит?
Как-то глупо продолжать, верно? Но суть в том, что слова эти никогда не видели света, понимаешь? Они бесконечно прокручивались в полной темноте.
Так что же он делал? Он стоял в тёмном подъезде и дрожал от смятения и растерянности, не зная, бежать ли за ними и взрослым выдержанным голосом объяснять, что, простите, но раньше, когда я проходил мимо вас, одна из вас высказала некое замечание по поводу одного мальчика, высказала вскользь, — это верно, но из-за редкого стечения обстоятельств это замечание имеет большое значение, это вопрос жизни и смерти, сейчас это трудно объяснить, не вдаваясь в детали, — это связано с госбезопасностью, поэтому, прошу вас, хоть это и странно звучит, не могли бы вы повторить сейчас то, что было вами сказано, когда я прошёл мимо?
И он побежал за ними, сначала медленно — и вдруг помчался, остановился и снова побежал, растерянный и сконфуженный он развернулся и бегом возвратился в тёмный подъезд, стоял там у стены, трепеща, как растерзанное хищником животное, половина которого ещё жива. Его уже не волновало, что кто-то может пройти и увидеть его, но те три слова, которые он, может быть, услышал (он хотел, чтобы это было так), вдруг взвились в безудержном веселье, как три птицы в замёрзшем саду…
Что бы ты сделала на его месте?
Он же понимал, что даже, если найдёт этих женщин, — не решится спросить, потому что тот, кто задаёт такие вопросы вслух, приговаривает самого себя к позору на всю жизнь. А если, скажем, они (и молодая тоже) скажут, что да, это о нём говорили, это он — красивый мальчик, то он уже не сможет им верить — у них будет достаточно времени рассмотреть его, и, пока он будет излагать свою странную просьбу, они всё поймут. Невозможно смотреть на него и не понимать, и тогда они из жалости ему соврут. Ты думаешь, я сегодня не побежал бы за ними, не упрашивал бы, чтоб сказали, тысячью и одним способом сказали бы… Я бегу, я бегу за ними и сейчас, ведь с тех пор не прошло и суток.
Ты ещё здесь?..
Я вдруг совсем обессилел…
Меня радует, что тебе нравится моё имя. Никогда не думал о нём, как об имени, обращённом в будущее[21], или о том, что в нём заключено обещание. Ещё я почувствовал облегчение, когда тебя перестал волновать вопрос, действительно ли Винд — моя фамилия, лишь бы моё имя светило тебе…
(Извинись за меня перед своей ученицей Ирит, к которой ты в последнее время слишком часто обращаешься…)
Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы разглядеть прозрачные нити твоего юмора. Он такой — идёт себе между строчек писем, посвистывая, и руки в карманах…
Ты чувствуешь, как уже целую минуту я пытаюсь скрыть внезапную беспочвенную радость? У слёз всё тот же вкус, но будто бы сменили краны… Этакое тёплое обманчивое журчание счастья, которому нет ни объяснения, ни оправдания в том, что я рассказал, кроме поразительного факта, что я это рассказал. Осторожно! Внимание всем подразделениям! Утечка счастья! Немедленно найти неполадку!
Нет! Наоборот — отставить, подразделения! Пусть утекает и увлечёт меня за собой! И неважно, что за моей спиной лают собаки, и по электрическому забору бежит надпись: «Семья делает тебя свободным!» Я всё-таки попытаюсь сбежать, не уверен, что мне это удастся, но на этот раз у меня есть помощь извне — кто-то ждёт меня на освещённой стороне. Ты даришь мне такие подарки, что я уже ничего не боюсь. Я готов закричать, что я хочу, я верю, что ты и я пойдём друг другу навстречу и встретимся по-настоящему посередине. Бывают такие чудеса!
Мне нужно побыть одному, наедине с собой. До свиданья, Мирьям.
Яир
(А сейчас быстро загляни внутрь меня, и ты увидишь, как мешочек яда выбрасывается в кровь, — прямая трансляция с места преступления: белая комната, четыре стены, без окон, без картин, в каждой стене — маленький раскрытый глаз, четыре распахнутых глаза без век и ресниц, немигающие, и у каждой пары глаз одинаковый, застывший взгляд. А по полу между стенами мечется слепая крыса).
21 августаНе пугайся, это не новый свиток. Просто поцелуй на сон грядущий.
Ты как-то пошутила, что мои письма как спутанный моток ниток. Я так в себе запутался, что теперь меня уже, наверно, невозможно распутать. Я даже не прошу тебя пытаться это сделать, только возьми в руку этот моток, подержи его в ладонях минутку, месяц, сколько сможешь. Я знаю, что прошу многого, но ты сейчас на самом верном от меня расстоянии близости и отчуждённости (ты уже не чужая), на расстоянии моего позора и гордости, и не отнимай этого у меня. Как я смогу смотреть в глаза Майе, если приведу её в комнату со слепой крысой? Она — моя женщина, я — её мужчина. Когда я с ней, у меня никогда не бегают зрачки при слове «мужчина».
Яир
23 августаСпасибо за столь скорый ответ. Видно, ты почувствовала, что происходило со мной после того письма.
Сегодня мне хочется только гладить тебя, утешать и утешаться… Ты прямо устремилась ко мне в письме, ты дала мне так много от девочки, которой была, от твоей матери и, главное, от отца. Наконец-то там появился кто-то мягкий и любящий (оказывается, я его совсем упустил. Он представлялся мне ворчливым, лезущим не в свои дела, желчным. Возможно, это из-за того, что я знал его только по фразе: «Почему тебе невесело, Мирьям?»). Но, может быть, он слишком мягок для своей трудной роли — защищать тебя от неё?
Посмотри, какое чудо! При всём том, что наши дома столь различны в тысяче малых и больших деталей, — мы оба почувствовали себя «как дома» друг у друга! А когда ты говорила об одиночестве в тесноте и о том, что тебе приходилось отвоёвывать право на уединение, я подумал — как хорошо, что сегодня только нам двоим из многих миллионов, живущих в этой стране, точно известно, как выглядит победительница конкурса доярок в провинции Чанг-Ша…
Тот, кто не рос в таком доме, может подумать, что «одиночество» противоречит «борьбе за уединение». Но только тот, кто там рос, знает, что значит разрываться между этими противоречиями.
Ты только кивни…
Как ты это выдерживала? (Мне хочется закричать — что общего у тебя с такой женщиной, как случилось, что ты, ты вышла из неё?!) А твои попытки все эти годы приблизиться к ней, понравиться ей…; поистине благородным кажется мне то, что в столь юном возрасте ты так старалась её успокоить, умерить тревогу за тебя… А что с исправлением? Исправление, о котором ты всегда говоришь? Между ней и тобой его не произошло? Ни разу?
И это чувство, что ты предаёшь её, когда рассказываешь мне о ней, мне тоже знакомо. Ой, Мирьям, ой. The oneness of life. Ты всегда задаёшь самые трудные вопросы, и знаешь, что у меня нет ответов на них. Я могу только сидеть рядом, горевать вместе с тобой и спрашивать, почему же так устроено, что никогда не удаётся извлечь из себя то ценное, в чём, очевидно, больше всего нуждаешься?
Как хорошо ты умеешь отдавать то, чего ты никогда не получала!
Мне нужно срочно уйти (родительское собрание в старшей группе детсада!). Много ещё нужно сказать; ты, очевидно, права в том, что уже недостаточно встречи «в середине пути», как я предложил, и что настоящая наша встреча произойдёт только, если каждый из нас пройдёт весь путь навстречу другому. Если бы только я мог сказать это с той же уверенностью! Я хочу большего, чем хотел когда-либо, но мне кажется, что я никогда ещё не проходил такого длинного пути.
Не будем торопиться, хорошо?
Я читаю твоё письмо и думаю, насколько моя история проще и банальнее твоей (возможно, я рассказываю её несколько более драматично…), а потом я вижу, что своим зерном, этим горьким и дрянным зерном, наши истории всё-таки похожи. И тогда я думаю о том, как десятки, сотни раз я рассказывал о своей жизни, стараясь произвести впечатление на кого-то (обычно — на женщин) своей печальной историей. Мои кассеты… В последние годы я даже перестал чувствовать отвращение… Но только одно я не перестал чувствовать — я рассказываю им это, как ящерица сбрасывает свой хвост, чтобы спасти душу. А тебе я хочу отдать свою душу, ибо таков наш договор — душа за душу. Может быть, когда-нибудь, когда я вырасту, я смогу дать тебе и тот подарок, которого ты от меня ждёшь, и облеку твоё лицо в этот рассказ.
26 августаИзвини, извини, извини — ты права, мне нечего сказать в свою защиту. Сумасшедшие дни. Работаю и бегаю с утра до ночи. Едва успеваю поесть. Я помню о нас, я с нами (не волнуйся). Скоро напишу по-настоящему. Сейчас меня, в сущности, нет. Удерживай мост со своей стороны (ты, несомненно, лучше меня сумеешь это сделать), позволь только напомнить тебе, что даже в великие моменты своей скромности я оставался эгоцентричным. Помнишь, как ты придумала рассказать мне о нашей встрече — ты, твоя мать и я, когда я в тот вечер возвращался домой из кино?