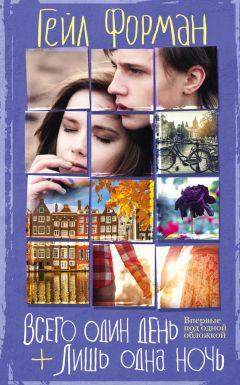Михаил Черкасский - Сегодня и завтра, и в день моей смерти
У соседей тоже теплится жизнь. В первом боксе с утра делали дезинфекцию: ждали гостей. И теперь привели девочку лет восьми, ровесницу, загорелую дочерна и вообще черненькую. С чем ее? -- отстраненно подумал. Еще на прогулке несколько раз, жужжа, стремительно влетал в дверь дядя-шмель, яркий, черно-белый, мохнатый. А теперь он плясал, подпрыгивал под высоким окном, норовя заглянуть и... врачей опасаясь. "Леночка!... тебе хорошо? -камушками забрасывал через форточку. -- Леночка, что тебе покушать? Говори папе". Интересно, что же мог сказать даже самому папе этот выкормленный ребенок, если на тумбочке, как у добрых фламандцев, в двух глубоких тарелках, переваливаясь через край, горели два натюрморта: груши, яблоки, виноград, персики, сливы. Папаша... волнуется, но, видать по всему, пустяки. Как он из себя прыгает. Не хуже меня. Только выше. И знает, за чем. И к другому соседу нашему Мише (познакомились с ним внаслышку), тоже пожаловали родные: нянька с сестрой. Подступила она к Мишеньке со шприцем, словно бы с леденцом. Ну, а нянька взяла его молча, еще улыбающегося, и, как белую рюху, слишком долго стоявшую на попа, распластала, вдавила в матрац. Вот уж тут он зашелся, засверляя трамваи. Но тяжелые трудовые ладони, наливаясь венозно, лежали чугунно. Сестрица скатила пижамку, оголила заветное место, для того и Господом уготованное, мазнула ваткой -- хоп! А-а-у-ю!.. Все до капельки выцедила, ничего не зажилила, выдернула иглу, причмокнула ваткой, улыбнулась добавчиво. О-ля-ля, что расстраиваться, вот он снова стоит, сияет, распяливает на нашем стекле ладошки да слюни. Но пора уж и мне выметаться: тихий послеобеденный ангел планировал на больничку. Все поправил, сложил, наклонился к тебе, постоял и пошел расставаться с намордником, с драгоценным халатом, с бациллами. И услышал дрогнувшее в слезах: "Папаня, ты когда завтра придешь?" Папаня... И потом, на другой день: "Па, ты тетю Лину видел?" Так и стала в добрую минуту звать меня, когда маята чуть-чуть отпускала. От кого, где подслушала? Или сердце само вытолкнуло.
Снова вышел ко мне Архангельск, Юрий Дмитрич. Да, получено, большое спасибо! Только, вот оказия, больно уж запашиста, со всего околотка навозные мухи сбежались, роятся, жужжат. Черно-синие, сине-зеленые. Взял двумя пальцами вместе с ними миску, на лестницу вынес, в свиное ведро. Целый день после этого отчего-то тихо, безлюдно было во всем подъезде. И того ведра уже нет, и свиней тех тоже, но вы, мухи, храните ли благодарную память?
Так вы не давали? -- все же немножко расстроился милый Юрий Дмитриевич. -- Нет, дали немножко. Через мясорубку пропустили и в пюре, с супом, но толку от нее, наверно, не будет.
Да, надо свежую. Обещают, все обещают, во всех концах. Хорошо бы кому-то из вас приехать -- там, на месте, можно и подтолкнуть.
А что, это мысль. Мы ведь сами подумывали к морю; нет, не к самому синему, не к самому Черному, но к самому Белому, к Ледовитому океану. С тобой, доченька, по алаперу. Анна Львовна ГЕНШТАБ (да, в такие минуты не Ильина) разработала план, подвела под него командировочный базис. И другие старались: где-то там далеко, в Даугавпилсе, изо всех сил надрывалась наша бабушка -- утилизировать на толкучке барахло в бумажки. Но кому лететь? Лина? Сколько ж можно! И потом... нет, она не поедет. Теперь не поедет. Что-то новое, кажется, появилось у Лины, какой-то Интерес. А как звали его, я тогда не знал. "Ладно, Линочка, спасибо тебе за все. Есть человек, который поедет". -- "Анна Львовна..." -- усмехнулась незаменимо. "Нет, мы ее сами бы не пустили -- Лева". -- "Это что-о?.. -- с превеликим презрением,-- это тот, который?.. Ну-у, Сашечка, попроси его, но ручаюсь, что он не поедет!" -"Давай поспорим", -- и при ней же набрал его номер. Выслушал он и: "Хорошо, Саф-ша, я поеду". -- "Но учти, будет трудно. И далеко, и ходить там везде надо". -- "А я что, не хожу? -- рассмеялся. И уже твердо, решенно: -Понимаю! Все будет в порядке. Я начну с обкома". -- "Ты всегда знал, с чего начинать. Адам начал с Евы, а ты..." -- "А я -- с Адама!"
А в больничке встретила меня лечащая: "Анализ крови у Леры плохой". -"Что, РОЭ?.." -- "Это само собой. У нее...-- тяжко вздохнула, посмотрела невесело, -- не знаю, или это от основного диагноза или... это желтуха". -"Как?! От ч-че-го?.." -- "Не знаю, не знаю, будем советоваться, смотреть. Если это болезнь Боткина, мы должны будем ее перевести в инфекционную клинику". -- "А укол?.. Эндоксан?!" -- "Не знаю, не знаю... -- и опять непрямо полоснула по мне: уж этот-то всем ядам яд. -- Завтра выходит из отпуска наша заведующая, и тогда..."
И тогда я остался в пустыне звенящей. Шкафы пялились, двери, стены. Старшая сестра раза два обошла меня молча, не выдержала: "Мазок пришел... третий. Отрицательный. Ничего нет". -- "Спа-си-бо..." Распустил тесемки на пояснице, медленно начал стягивать халат. Пойду Тамаре звонить. А твоя мама, Лерочка, в это время дошивала потайной патронташ к лифчику. Где одна грудь -- грудь, а вторая -- резиновая перчатка с глицерином (чтобы, если кто-то заденет, ничего не подумал; ну, что там ничего нет, тоже упругая, мягкая). А патронташ она шьет, чтобы к тебе на передовую ползти с "шарлатанскими" снадобьями, травяными отварами. В общем, доченька, с противотанковыми гранатами. Говорят, Лерочка, царь Мидас яды больше мороженого любил. Может, и нам следовало сызмалу тебя приучать. Эх, на многое мы могли бы роптать, да только не приходилось на однообразие. У людей как? На войне ли убьют, кирпич ли там свалится, автобус задавит, зарежут -- это ужас мгновенный, внезапный. Когда я сейчас думаю, отчего мы не в желтом доме, на полном обеспечении, то помимо обычной человечьей дублености, вижу кое-что наше, частное. Не гвоздили нас молотом в темя, не раскрыли нам горло косой, не спихнули нас в пропасть, нет -- набросив на выи удавку, волокли волоком, шаг за шагом. Долог волок, упирались по-бычьи, хрипели, скользили. Как нам было тебя удержать, если нелюдью нас тащило -- сила неведомая, нечеловеческая затягивала сыромятные петли на горле. Только дважды, ослабив, давала нам время вздохнуть да подумать. Что еще все может статься. Но теперь потащило неостановимо. По скользкому крутояру. Не орали мы в голос, не рвали волос и не падали наземь подкошенно -- не спеша, незаметно, как солнце кружится, нас засасывал ужас трясинный. Но лицо у него было не шершавое -- тихое, буднее.
Вот такое. Я сижу у твоей постели, считаю капли глюкозы, отзванивающие: тинь -- раз, тянь -- два, тюнь -- три... И слежу за секундной стрелкой, чтобы было в минуту шестнадцать-семнадцать капель. Не больше. Не забить вену. Вся наука в том, чтобы медленно шло, вымывало из крови. Сестра, пожилая рыхлая женщина, приносит бутылку, молча выбулькивает в воронку, венчающую треногу. "Вы следите? Смотрите?". Смотрю. На ручонку твою, вывернутую наружу залокотной ямкой, приделанную ремнями к колодке; на ленточки пластыря, что придерживают впившуюся иглу, косо прильнувшую к коже. Мне не надо тебя уговаривать, что ворочаться здесь нельзя, что пластом надо, на спине. Ты сама у нас умная.
-- Папаня... читай...
Сегодня мой день, целый. Тамара не может. И вчерашнее ходит-бродит вокруг меня: прогулочная кроватка, на ней ты, невесомая, слабая. Табуретка, куст жасмина, додержавший до августа еще белые, но повядшие, обведенные желтизной лепестки. Как глаза твои. Мухи, листья, сомлевшие травы. И капустницы с их лохматым, суматошным полетом. И работа моя побочная, постоянная -- по устройству твоей судьбы. Вот, если поймаю одну, лишь одну бабочку, все будет хорошо, но поймать надо, не помяв, не убив. "Папа, ну, что ты там все ловишь?" Вот, поймал, поймал я судьбину за крылышко. Аккуратненько так, лишь пыльцу пообтряс. Подержал за брюшко, выпустил: ну, лети, и чтоб нам так же. Из Ее лап.
Миша нас одолел: молотил по стеклу кулачками. Нянька отодвинула малость кроватку, он по воздуху пробовал, не понравилось, перестал. Что-то хочет сказать человек, но, как все мы, лишь мычит, слюни пускает. Никого из родных мы не видели. Говорят, есть мать, да не ходит: "Зачем ей такой? Рада, что спихнула". Каждый день его колют, дважды. Лишь тогда и слышим невозделанные словами звуки.
И другое соседство уже для нас не секрет. Положили твою сверстницу с аппендиксом, вырезали, да нагрянула другая беда -- чесотка. Эту девочку тоже уколами потчуют. Сносит гладко, подставляя крепкую загорелую тыквинку. И когда сестры вытаскивают жало, лица у них человеческие -- сотворили благо. Понимаю их и завидую. Кому же охота входить к обреченным. А сегодня устроили девочке баню. Притащили свинцовую ванну, налили живой воды, искупали ласково, весело. И полеживала, разрумяненная, в платочке, очень хорошенькая. Погрызет яблоко, задумчиво полистает книжку, из бутылки пригубит. А ты... едкой щелочью жгло душу: за что же тебе, доченька?
Изначально в крови нашей бьется желание жаждное справедливости. Чтобы было так, как положено, как заслужено. И хотя все-все, божье и человеческое, временами вопиет о другом (что убийцы здравствуют, что овец стригут и режут их волки, и что нет его, нет -- воздаяния!), -- все равно, ослепленно ли, зряче ли, тянемся к справедливости. И отнять такого нельзя. Уберите -- что останется? Милосердие, доброта, дружба, преданность, жертвенность -- все они из нее же, из справедливости. Уберите, и падет он сразу же на четыре лапы свои, человек. И оскалится, и зрачки его по-болотному вспыхнут в вечной ночи. Пусть химера, но должна она, должна быть -- справедливость.