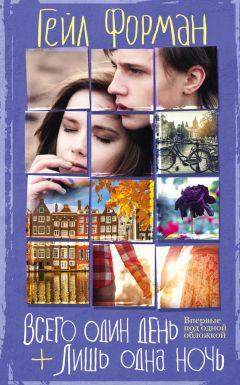Михаил Черкасский - Сегодня и завтра, и в день моей смерти
И вошли мы под сень вековых тополей, в перешепот их и в молчание. ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
"Но продуман распорядок действий". Шли, держа тебя за руки, вдоль забора, облезлого, старого. Тополя высоченные глухо роптали. А пчу грачи не вьют гнезда здесь? А пчу, скажите, не нравятся им эти исполинские дерева? Все тут есть: дымы городские, бачки выгребные, медицинская помощь. Нет, не вьют, не галдят, не детятся. Насмотрелись, что ли? Или всюду царит он, всеобщий закон, и никто не в силах быть умнее своей судьбы? И когда родилась ты, мне казалось, что, ежели не в писаниях, то в тебе обманул я судьбу. Слишком сильно, бывало, я думал: когда становилось тошно, что ничего не выходит, забивался под твое неоперенное крылышко -- пусть уж так, зато ты у меня, ты, и хватит. Но когда мы ловчим с судьбой, то труда себе не даем замечать этого. Живем, и вся недолга. Когда же она поступает с нами, говорим обиженно: как жестоко нас обманула судьба. Это так, это нам не дано поступать с нею. Разве что в поговорочке: "Человек хозяин своей судьбы". Но сие из газет, для газет. Даже грустное: "Если бы молодость знала, если бы старость могла", -- толкует совсем о другом. О том, что сложить бы иначе, по-новому. Но, скажу вам, печь голландскую, в кафеле или русскую с сыто гудящим челом, и лежанку нехитрую, или вовсе мангалку из двух кирпичей сложить можно. Но судьба -- про другое. Не про то, что "написано" на роду, не про то, что станется, а то, что случилось, сложилось. И чего уж иначе не вывернешь. Потому что не властен. Нет, не Рок -- но Постфантом. Сперва случится, сложится, потом скажут: на роду было написано. Хорошо, а ежели глянуть иначе: отойти назад и вперед посмотреть. Вот тогда получится Рок, предопределенность.
Никакой не писатель, никакой не служака и уж вовсе не чивый кормилец, я отнять от себя даже сам одного не смогу: что отцом был. Далеко-далеко не предельным: свое личное вовсе не меньше любил. И представить себя лишь "в кругу семьи", среди множества чад -- и помыслить не мог. Нет, увольте. Да, сидел месяцами на дачах, да, готовил, гулял, постирывал, но все это вынужденно, спихнуть не на кого было. Это как -- нормально? Да, считаю, что да. Ненормально стало, когда в тебя вцепилась болезнь.
Но каким-то отцом и я был. А теперь и того более. Вот недавно, когда мороз завернул под двадцать, напялил подштанники; собираясь после суток домой, вышел из душа и, как водится, тупо задумался. Будто со стороны на себя глянул , прошептал, чтобы Гоша внизу не расслышал: "Ниобея в кальсонах".
Положили тебя не в твою, не в Андрюшину -- в Витину келью, и оттуда всплывало весеннее, жалобное: "Дя-енька, по-цитай книзецьку... дяенька, хоцю ябъяцька..." Вот, лежал он, сердечник, не двигался, а Салунин скакал на пружинах: ма-каенов, макаенов! А потом встал Витенька, такой шустрый гамен, забегал, заголосил на всю клинику. Да, по-живому умирать можно и по-мертвому выздоравливать.
На смену я с утра заступил.
-- Папа, а у меня уже мазки брали. -- Хорошо, гулять разрешат. -- А как мы гулять будем? -- Раскладушку вынесу. -- Здравствуйте, я ваш лечащий
врач, -- поклонилась худощавая незнакомая женщина, показала умной улыбкой, сколь приятно такое знакомство. -- Ну, давай, Лерочка, посмотрю тебя. Сегодня укол сделаем.
Подкатила сестричка к нашему боксу кресло-коляску, Андрюшину, и, взглянув на нее, вздохнул: "Лерочка, может, дойдем?" -- "Давай... только ты меня подержишь? Папа... -- обернулась в дверях процедурной, -- ты... ты здесь будешь?"
Увели. Заплакала. Ничего, ничего, только бы помогло. Кричит! Стекла нижние были закрашены, на носки привстал, увидел. Только ноги твои, худые, с коленками острыми. Как давил на них кто-то. Остальные... трое? четверо? заслоняли, склоняясь. Они были люди, хорошие люди, столько делавшие для нас! Вот сейчас, на особицу, сострадающе, и единственно лишь от них могли мы ждать помощи, лишь от них, от них! но они для меня в ту минуту были белые грифы. Над тобой. Отошел к окну, заплакал. Замечал, как шли мимо, ну, и ладно, смотрите. Рукавом утерся, заготовил тебе улыбку. "Папа... -протянула неколотую ручонку, -- а когда мама придет? Она знает, что мне... делали?" -- "Конечно, ты же видишь, как у тебя носик болит, надо же что-то делать".
От натяга уже начинала лосниться воспаленная кожа. Что же будет, если... "Опять тошнить будет. -- Помолчала. -- Ночью. А мамы не будет".
Когда собрался уходить, сестра подошла к боксу: вас там просят. Это Лина была. "А я могу посмотреть? У меня и халат есть". -- "Нет, не стоит, и так мы торчим. К окну подойди". - "Теть Ли-ин..." -- приподнялась, руками в подушку уперлась. "Гулечка!., маманька моя!.. я тебе куколку принесла,
вот... " -- отошла, зарывшись в платок, показывала, что дождется меня.
Ну, и шли. Молча. Значит, худо, если Лина -- ни слова. "Ну, что?" -все же спросил. "Ой, Сашка!.." -- заплакала, так хорошо, по-родному.
Утром я приехал по дворницкой рани: голяками они доскребали дорожки. И в дверях бокса молчаливо встречали меня глаза твои карие, словно кофе бессонный. "Папа, а меня рвало,-- безразлично проговорила и все трогала, щупала нос.-- А я делала, как ты учил... вот так, на грудь ложилась. А что мама делает?"
Есть теперь и для нас, доченька, безутешное утешение -- что не мучаешься, что уже никому никогда не достать тебя ни иглой, ни ножом, ни ядом.
Днем, наверное, жарко будет: свет тягучий, матовый, и закат вчера отливал апельсинно-дымным, опаловым. Но пока еще зной не выдышал лиственную ночную свежесть. Завтрак мимо проехал. Даже чаю не стала. Раскладушку вынес, поставил. Потом тебя. "Папа, а наши цветочки не выросли? Ведь мы с мамой сажали, -- глядела в комковатую землю. Да, не сочли они нужным вырасти, другое взялось. -- Папа, а знаешь, какие это цветы? -- показала на колокольчатые, бледно-лиловые, на высоких, клонящихся стеблях. Не единожды виденные, но, как в сито входили, и из сита высеивались, из моей головы. -Эх, ты-ы, это водосбор. Ну, читай..."
Все готов, но читать вслух не люблю. И опять меня относило к общему. Вот пройдет этот день и другой, другие... Не хочу о них думать, не могу, но ведь ничего не останется, ничего. Пробегая с драной портфелью в публичку, сколько раз с удивлением я посматривал на трехъярусный памятник Екатерине второй. Как жеманно, величавая и надменная, простирает она скипетр над париками трубецких-репниных к гастроному No 1, бывшему Елисееву. Не обидели ее формами ни скульптор, ни Бог. И пускай Толстой злобно морщился (мол, смердило от подола великой распутницы) -- ничего, ничего, стоят вельможи, как под вечевым колоколом, под юбкой ее и не морщатся, улыбаются, очень даже гордые и довольные. Даже сам ершистый воитель Суворов. И пускай говорят: крепостница, тиранша, все равно, не шелохнувшись, стоит. Прошмыгнем, как серые мыши, истаем в бесследной дали, а она навсегда. А спросите любого историка нашего, для чего проливалась безбрежная кровь, как не для того, чтобы вознести над царицей любого из нас -- мыша.
Утром снова ты не спала: эндоксан. И пошел-покатился день, будто детский мяч, надувной, бело-зеленый. И для нас тоже чем-то белый: тьфу, тьфу, лучше. Не щупаешь нос. И лоснится не так. "Там гормон у вас, не забудьте", -- остановилась в проходе сестра. "Хорошо, Валечка, не забудем..." -- а "выбросить"
проглотил. "Да, вам мочу еще сегодня сдавать".
Вот тогда-то в первый раз и заметил: будто темное пиво. Пригляделся к тебе. Кожа вроде желтит. Неужели дошло уж до этого? Знал: очень часто при этой болезни -- горчишность.
Анна Львовна загорелась новым -- алаперой. Это шло из журнала "Юность", где рассказывалось о суденышке "Щелья", о путешествии автора по ледовитым морям. Были там раздумья писателя над белужьим стадом. И припомнил он давнюю историю об одном человеке. Который болел, а потом вылечился. Нет, Саша, вы послушайте, -- терпеливо убеждала меня Ильина. -- Я не сомневаюсь, чем он болел. Тут, правда, ничего не сказано прямо, но и так ясно: почти все в палате умерли. А не сказано, чтобы не вызывать ажиотажа, сенсации. Им же тогда редакцию разнесут. Я постараюсь связаться, узнать. Только бы где-нибудь ловили белуху". У нее не только доброе сердце, но железные организаторские способности, не совсем отдавленные за долгую жизнь. Разыскала автора (подтвердил, что именно эта болезнь), созвонилась с обкомом, газетами, с промысловым колхозом. А белуха не ловится, не сезон. Вот весной бы иль поздней осенью. Пока же, где-то за Мезенью, на складе тухнет соленая. А доставить как? Но и это уже предусмотрено Ильиной: созвонилась с аэрофлотом, и дано указание всем начальникам перевозки грузить в отлетающий самолет. Все я выслушал и бежал к тебе, доченька, с глазами промоклыми. От того, что столько людей уже втянуто, готовых на всякие неудобства.
Отпуск кончился, но работать и думать не мог. Надо новенькую кочегаршу просить, Зину Лядову, ту, что вместо Павла теперь.
Не узнал я своего логова -- потолки белены, трубы крашены, подоконники оторочены белой плиткой. Все чужое. Да и сам я чужой. Столковались быстро, глаза-пуговки засветились: "Только как вы рассчитываться со мной будете?" -"Очень просто: получу и отдам".