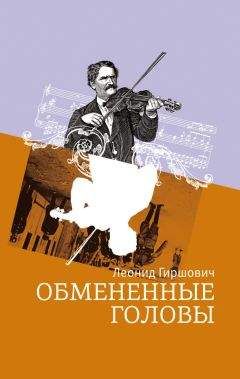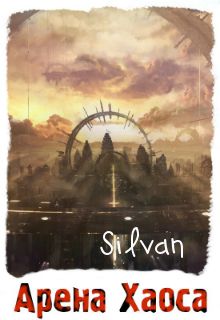Леонид Гиршович - Арена XX
– Бери, брат.
И станут последние первыми. И будет это передаваться из уст в уста. А комиссар по военным делам скажет:
– Красных бойцов наградили, а красных командиров нет. Что у вас с рукой? Ранены?
Даукш отвечает не сразу. Осторожно двумя пальцами левой руки берет правую кисть в белой перчатке и помахивает ею.
– Эту руку пожимал Ленин.
Троцкий с полным пониманием кивнул и на таком же полном серьезе сказал:
– Завещайте ее музею товарища Ленина.
Ряды спускались полукружьями к основанию этой полуворонки, где полулюцифер пытался отсудить себе недостающую половинку. Вот он сошел в зал и поднялся на несколько ступеней по проходу. В проходах на ступеньках тоже сидели.
– Настоящими революционерами становятся в отрочестве. Я тоже начинал неоперившимся птенцом. Как вас зовут, товарищ? – он снял пенсне – движением, каким снимают шляпу, – и протер стекла, словно получше хотел разглядеть этого еще совсем мальчишку.
– Александр… – сглотнул… и во все воронье горло: – Александр! Выползов!
Трауэр заторопился, как торопятся с непрошенными объяснениями:
– Товарищ Троцкий, они с другом пытались освободить старших товарищей, которых вели на расстрел. Друга убили, тело бросили в реку.
Троцкий пожелал узнать подробности. Но Выползов еще не вжился в образ.
– Ну, это… В Госпитальной, говорили, расстреливать будут… В балке, значит… Ну, хотели сперва вместе, значит…
Трауэр пришел на помощь и рассказал, как было «на самом деле». Троцкий слушал сосредоточенно.
– Товарищи, – обратился он к залу, – оказывается, в Казани подпольно действовал Союз Коммунистических Подростков. На мой взгляд, это известие исключительной важности, товарищи. Подвиг Николая Карпова имеет огромное воспитательно-пропагандистское значение и должен быть увековечен. Надо провести массовые траурные торжества.
– Я Трауэр, редактор газеты «Клич юного коммунара». Мы как раз этим занимаемся.
– Очень хорошо, товарищ Трауэр.
Потом Даукшу:
– Пусть позаботятся о семье. Лица, близкие комсомольцу Карпову, не могут быть не близки советской республике.
Даукш бережно поддерживал руку в белой перчатке, словно вел любимую под венец. Голую правду не говорят и не показывают. Без перчатки зрелище было бы отвратительным. Еще решат, что трофическая язва ему передалась через ленинское рукопожатие. Перчатка прирастает так быстро, что вскоре ее перестаешь чувствовать. Выползов тоже всю свою недолгую жизнь «не снимал перчатку».
С Трауэром обстояло тоньше. Под давлением в Х-тысяч атмосфер честность можно выдать за честь – добродетель шляхтичей. «Гонор» звучит по-русски уничижительно, как и все, идущее из панской Польши. Революционная целесообразность есть высшая форма нравственности. «Осознанная необходимость» есть высшая форма пролетарской сознательности. Другими словами диалектика осознаваемости всего, чего угодно, есть высшая форма свободы. Это освобождало Трауэра от необходимости самообмана при ежечасном и ежесекундном вранье. Избавляло, если угодно, от мимикрирующей совестливости.
Но правда с кривдой все равно сразятся, «не в тым, так в иншем, не на жеми, так на небеси». Поэтому самообман неизбежен, неосознаваемый самообман обманщика: Трауэр не признается себе, что революционной целесообразностью он прикрывает не срам – природное его отсутствие. О жалкий жребий импотента! О, театральная студия русского юношества!
Обманщику, который сам обманут, не понять, что правда – это спасительный сон и это единственное, что необходимо осознавать. Ты, вмерзший в ужас скорой смерти, уясни себе одно-единственное: как о том, что ты уснул, узнаёшь лишь проснувшись, так же и о том, что умер, узнаешь лишь воскреснув.
А он, дурак, спустя полтора десятка лет нацарапает, как курица лапой – в преддверии казни домашней птицы, чего ей не избежать:
…Вчера меня исключили из Партии с формулировками, после которых не только не место в Партии, но и на советской земле. Было сказано, что я руковожу контрреволюционной группировкой в литературе. Я знаю, что все это заслужил. Я так был обласкан Партией, я пользовался ее доверием, я с величайшим стыдом думаю о том, как гнусно я вел себя. Благодаря своим безобразным поступкам, благодаря общению с проклятыми врагами народа, благодаря политической слепоте, благодаря разложению, которому я поддался, я попал в страшный круг, из которого не в состоянии вырваться. И еще одну роковую ошибку я совершил. Когда мне было девятнадцать лет, как редактор газеты «Клич юного коммунара» я присутствовал на выступлении Троцкого в Казани и в неправильном свете отразил этот факт в газете. Это был эпизод, который не только не оставил какого-нибудь следа, но которому я просто не придавал значения, потому что всю остальную жизнь активно боролся против троцкизма и других контрреволюционных групп за линию Партии.
Родной товарищ Сталин, сейчас опасаются не разоблачить врага и поэтому меня изображают врагом. Ведь Вы же знаете, что это неправда. Не верьте этому, товарищ Сталин! Помогите мне вырваться из этого страшного круга, дайте мне любое наказание. Полученный мною урок никогда не пройдет даром. Простите меня, что я все и пишу и пишу Вам, но это – от отчаяния. Товарищ Сталин, мне 38 лет. Неужели Вы считаете меня конченным человеком? Я еще много могу сделать для Партии и Родины.
Товарищ Сталин, родной, помогите мне.
Трауэр.Продетый в игольное ушко царства, что не от мира сего, дядя Ваня быстро пошел на поправку. В новом царстве он зажил по законам новой фантазийности, коллективной. Секретарь отдела по обработке животных продуктов при губсовнархозе товарищ Хмельницкий организовал в бывшем Епархиальном училище пошивочный цех в память о дедушке-портном. Дядя Ваня обобществлен и поставлен на службу революции казанским отделом пролеткульта в память о комсомольце-сыне. Задача дяди Вани – участвовать в поминальных торжествах.
На открытии мемориальной братской могилы в Черном Озере он вспоминал: «Ну, такой был выдумщик, второго такого свет не видывал. Защитник слабых, обидчик сильных. Никого и ничего не боялся. Настоящий Тиль Уленшпигель. Смотришь, и такое чувство, что вот-вот появится». (Выползов, тот на слова был скуп, сидел – или стоял – насупившись, настоящий будущий солдат революции. По роли он был пятнадцатилетним. Жеймо… Янина Жеймо, Золушка – та тоже снялась в немой фильме «Мишка против Юденича» да такою на всю жизнь и осталась.) Чернозерский мемориал – три гранитных уступа грубого теса. Высечено: «Никто не даст нам избавленья». Стон из-под глыб.
К седьмой годовщине взятия Казани «Комсомолец Татарии», как теперь называлась газета, опубликовал с десяток читательских писем. В своих письмах читатели предлагали Булак именовать отныне Протоком Комсомольца Карпова. Инициатива была согласована с зампредисполкома Попковым, который вроде бы согласился поддержать, но потом дал «задний ганг»:
– Все водные артерии страны, от Волги до Мельничного ручья, находятся в союзном подчинении. Они подобны водяным знакам, удостоверяющим подлинность казначейского билета. Изготовление местных денег есть посягательство на целостность страны, статья – измена родине.
А тут еще совпало с переименованием Москвы в Ленинград. Было и такое. Как мы помним, кончилось тем, что Ленинградом назвали не Москву, а Петроград. Как корабль назовешь, так он и поплывет.
После этого волна переименований, захлестнувшая страну в первые годы революции, превратилась из цунами в легкую рябь. Волга так и не стала Ителем, что было в планах, а Булак – Протоком Комсомольца Карпова. Вместо этого в который раз переименовали Дворянскую. Она уже была и Троцкого, и Одиннадцатого сентября – в честь взятия Казани[23].
Взятие Казани – старая песня. Оно праздновалось всегда. Не всегда в этот день, и не всегда сопровождалось возложением венков в Черном Озере под пение «Варшавянки». Бывало, над городом висел пороховым облаком густой гул колоколов и в Благовещенском пели божественную литургию. Однако сути дела это не меняет. И одиннадцатого сентября, и второго октября праздновали одно и то же: лихое, сопровождающееся сабельным звоном, очередное перераспределение собственности, очередное «было ваше, стало наше».
В десятую годовщину взятия Казани дядя Ваня в присутствии городской общественности потянул за бельевую тесемку, и наволочка, прятавшая заветное имя, упала. Перед тем слово взял Николай Варфоломеевич Попков, которого до обидного рано упекут. Иногда думаешь: судьба – живое существо, завистливое и злорадное, и чувств своих по-бабьи не стыдится, и если тебе хорошо – берегись! Нет чтоб жене товарища Попкова дать пожить до года тридцать седьмого или даже тридцать восьмого – с дочкой, с дачкой, с тачкой, с жучкой, со Степанидой-домработницей, с Ахметкой-дворником. И вкусить-то не успела. При НЭПе была молодая, глупая, тополек мой тополек, в красной косынке. Розка Рамзаева, на одной с ними лестничной площадке, уписывала свой кус злорадства за милую душу, глядя, как Николая Варфоломеевича увозят на дровнях, что твою боярыню Морозову, под улюлюканье малых бесов. А самой Розке еще ходить и ходить в шубе и на дачу ездить, прежде чем встретятся обе в далеком Алжире. Там обмотанные до самых глаз туареги нападают на французский гарнизонный госпиталь… Просыпаешься, а ты в АЛЖИРе – Актюбинском Лагере Жен Изменников Родины.