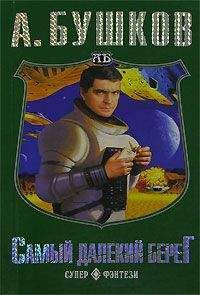Константин Лагунов - Больно берег крут
Не предполагал Гурий Константинович, что о его идее закачки попутного газа в пласт так хорошо осведомлен Шорин. «Ударил под дых, сшиб и ликует, сукин сын», — подумал неприязненно Бакутин.
Тут Фомин стал предлагать выпить посошок на дорогу…
2Разгоряченный вином и спором, Шорин шагал серединой дороги так напористо и широко, будто продирался сквозь непролазный бурелом иль пробивал путь в густом урманном пихтаче. Он и дышал натруженно-сипло, сплюснув в кулаке пачку сигарет. Когда, спохватясь, разжал руку, там оказалось табачное крошево, с лоскутками бумаги перемешанное. Сердито швырнул его под ноги, протяжно кашлянул, будто прогудел, вполголоса выматерился.
Чуть приотстав, сбоку шагала Анфиса. Она под стать Зоту ростом и силой, только лицом несравненно красивей и ярче. Двадцать лет живут они вместе. Четверых детей растят. По нынешним временам такая семья в диковинку. А они не бедуют. Безбедно и дружно живут. Зот умеет деньгу взять, и Анфиса сложа руки не сидит. Такую портниху не в каждой округе сыщешь, вот и осаждают ее заказчицы, не рядятся, платят сколько пожелает, да еще благодарят да подарками балуют…
Тяжеловат, крут характер у Зота Кирилловича, а Анфиса не сетует: на то и мужик, сказал — отрезал. И любит, и верен ей, и детей в отцовской строгой ласке держит.
Чего ж еще желать? На что сетовать? Разве что на язык несдержан? Как подопьет, так язык с привязи, и рубит и сечет всех кряду, ни на чины, ни на кумовство не глядя. И несет свою головушку, ровно корона на ней воздета.
— Фиса, — донесся негромкий, хриплый голос.
— Угу, — тихонько аукнула женщина и, тут же догнав, пошла рядом.
— Как Бакутин-то, зло за пазуху не заначит?
— Не злобив навроде. Только б ты поостерегся так-то, нарастопашку. Нарвешься не ровен час, прищучит.
— Боятся правды-то, — голос сорвался, будто металл звякнул в нем. — Хозяева нашлись мне, алеха-бляха!
— Полно, Зот, — успокаивающе коснулась руки мужа. — Стоит ли кровь себе портить.
— Знамо, не стоит, а не могу. Вот убей меня, алеха-бляха, на этом самом месте — не могу! Пока трезвый — куда ни шло, терплю… Эка махина держава наша, одно слово — Россия!
Всего в ней досыть. И люди — краше да могутней нет на земле. А мы все внатяжку. Как гляну вокруг да вспомню…
Вот на этом самом «вспомню» всякий раз обрывалась исповедь Зота своей жене. Что же он вспоминал? — оставалось загадкой. Но что-то потайное, недоброе таилось в душе мужа. Что? Расспрашивать Анфиса не решалась. Раза два попробовала вскользь, неприметненько вопросиками подтолкнуть его к обрыву, да тот и пьяным чуял роковую кромку за версту и, едва начав пятиться к ней, умолкал, угремел либо так взбуривал, что у Анфисы от страху язык к нёбу прилипал. Что-то, видно, давным-давно ранило душу Зота, и с той поры беленится мужик, чуть тронь хмельного — свирепеет, кусает, но не наугад, не первого попавшего, а норовит зацепить тех, кто чином повыше да званьем постарше. Найти б то раненое место, занежить, да разве разглядишь в потемках чужой души царапину. Не чужой ведь, единственный и самый близкий, а все равно потемки в душе…
Сколько раз к самому горлу подкатывала Зоту нестерпимая жажда исповедоваться Анфисе. Никчемушной, зряшной была бы та исповедь, а все-таки стало бы легче на душе, и дышалось по-иному, и виделось иначе. Не страх удерживал Зота от признанья, а что? Не знал. Боязнь жалости? Пожалуй. Она обязательно станет жалеть, не запретишь. А чужая жалость, как ржа, разъедает душу, тупит характер, вяжет волю. Жалость принижает, сгибает, покоряет, а уж этого-то он никак не хотел. Да и, разделенная пополам, неприязнь его ослабнет, он перестанет вспыхивать и разить мыслью, а порой и словом тех, кто когда-то пытался сломить его, еще неоперившегося, не отрастившего ни кулаки, ни зубы. Ему нужна была ненависть: она подогревала, приподнимала, двигала на добро и зло. «Вот вам!» — мысленно шептал он, докладывая о рекордной проходке скважины, иль о досрочном выполнении плана, иль получая очередную награду. «Вот вам!» — мысленно шептал он, высказывая громко и прямо горькую, злую, недопустимую правду, как это посильно и простительно только рабочему.
Всю сознательную жизнь доказывал Зот Шорин, что не хуже, а лучше других. Всю жизнь мстил за тот незабываемый кувырок, который многим стоил жизни, иным — счастья и спокойствия. Но кому он доказывал и мстил? Этого не дано было знать никому.
3С именинной пирушки Бакутин возвращался вместе с Нурией. Муж ее, бурмастер богатырь Сабитов, как всегда, перебрал. Незаметно во время спора, выйдя в смежную комнату, пристроился на диване и мертвецки уснул.
Нурия легонько держала Бакутина под руку. Маленькие, короткие, пухлые пальчики казались Бакутину раскаленными, каждый на особицу чувствовал он и, чтоб унять приятное, хотя и неожиданное волнение, всю дорогу не умолкал.
Сперва о пустяках разных — легко и беззаботно, потом неприметно соскользнул с накатанного пологого пути.
— С чего это Шорин завелся?
— Всегда такой, — певуче, с милым, еле приметным акцентом ответила Нурия. — Яткар три года у него в бригаде бурильщиком работал. Зот Кирилыч справедливый, но никакого спуску. Это он шибко выпил, вот и разговорился, а трезвый лишнего слова не обронит. На собрании силком понуждают выступить. Но заговорит — все выскажет. В лицо. Хоть самому министру.
— В Башкирии вы тоже на промысле работали?
— Я нефтяной техникум кончила.
— Как Турмаган?
— Сначала шибко плохо. И вода не по вкусу, и воздух тяжелый, и люди… Случайные, незнакомые. Много тут плохих. Да и любых свободных рабочих рук, чтоб подняли здесь города и промыслы — не найти столько, сколько надо. Ни за какие рубли.
— Ах, рубли! — болезненно воскликнула Нурия. — Обманное счастье. Призрак. Засасывают. Тянут. И все в ночь, подальше от дорог и людей. У тех, кто в золотой клетке, сердце из железа. Деньги — зло. Жестокий, горький обман. Все, что покупается, — не главное для счастья.
— Что ж главное? — спросил Бакутин и почувствовал, как дрогнула маленькая рука.
— Не знаю, — затрудненно и не сразу отозвалась Нурия. — Не знаю, — повторила с болью. — Что главное для меня — другому пустяк. Смеяться станет.
— А вдруг поймет?
— Поймет ли? — Приостановились на миг.
— Кто знает. Я думал…
— Зачем думать? Пусть сердце решает.
— А если оно не в ладах с разумом?
— Затылком вперед не ходят.
— Есть еще что-то кроме…
— Ничего. Ничего больше. Шелуха.
Нурия искоса, снизу вверх заглянула в глаза Бакутину, и тот обмер от хмельного восторга, который влился в него из ее черных, сверкающих любовью глаз. Еще миг, и он бы обнял ее и наверняка зацеловал, но Нурия чуть отстранилась.
— Нельзя пить слишком горячее: жажды не утолишь. Хочу напиться раз в жизни, но досыта.
— Раз в жизни — не густо, — хрипло бормотнул Бакутин.
— И это не каждому. Счастливчику только…
Как мягко ступали ее маленькие стройные ноги. Как гибок и податлив был ее стан, чуть тронутый полнотой зрелости. Как бессознательно нежно, оттого на диво волнительно улыбалась она и обессиленно манила, сулила неизбывную радость нерастраченной любви и сама хотела и ждала этого же.
Не думая ни о чем, Бакутин в подъезде крепко обнял женщину за талию, почти оторвав от ступеньки, привлек к себе.
— Погоди, — шепнула она. — Не надо… Не здесь.
А сама как бы распахивалась перед ним, все беспомощнее обвисая на его руке, полуприкрыв глаза.
Но когда он приник к ее вздрагивающим жарким губам, почувствовал грудью податливую упругость высоких грудей, Нурия ловко выскользнула из его рук, в два прыжка влетела на лестничную площадку и остановилась у своих дверей.
— Сама… Потом… Когда уйдет из сердца та…
Он долго сидел на ящике для обуви, остывая. «Вот как занесло. Еще бы миг… Любит ведь». Эта мысль прострелила. «Не забавы ради, не от скуки. Любит».
Закурил. Вынул из внутреннего кармана полученное сегодня Асино письмо, снова прочел. Не приедет. Опять зимовать без жены и без сына.
Недоброе словцо сорвалось с горько искривленных губ, и было оно в первый раз адресовано Асе.
Глава восьмая
С каждым днем росла числом и силой голосистая яростная машинная рать Турмагана. Вездеходы-тягачи, трубовозы, самосвалы, краны и прочия и прочия — несть им числа, — подразделения железной рати корчевали тайгу, гатили болота, рыли траншеи, отсыпали дороги, волочили двенадцатиметровые стальные плети труб, бурили, сваривали, изолировали и делали еще многое иное, помогая нефтяному Турмагану вылупиться из многослойной мильоннолетней толщи болот.
По единственной кольцевой дороге шли и шли окутанные вонючим дымом, заляпанные грязью, пышущие жаром машины. Они везли людей и горючее, стройматериалы и продукты, одежду и обувь. Они спешили на помощь вышкомонтажникам и буровикам, трубоукладчикам и дорожникам, связистам и электрикам, врачам и кулинарам. Машинам было тесно и неудобно на непроходимой в непогоду дороге-времянке. Когда-то она очерчивала границы города. Но со временем тот разросся и перешагнул дорогу, и та оказалась трудно одолимым препятствием и за то не однажды была проклята турмаганцами. В распутицу дорога походила на грязевой поток с глубокими, как рвы, колеями, в которых пузырилась и хлюпала черная жижа.