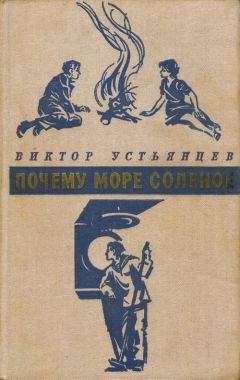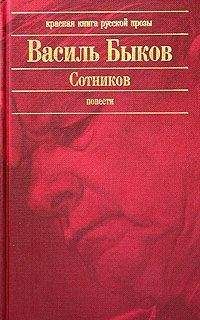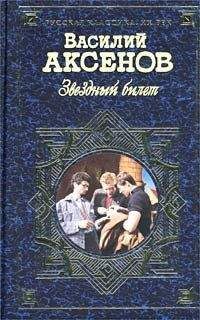Василий Аксенов - Золотая наша железка
И вот, закончив свою мысль и получив команду, Валера скользит вниз мимо двух съемочных камер, легчайшими, как пух, христианиями меняет направление и уносится на дно Баксана, где ждут ею два других аппарата.
— Вы куда летите, летучий лыжник, словно падучая звезда? — спрашивает его автор сценария.
А он молчит.
— Вы куда, черт бы вас побрал, Серебро, катитесь, словно гонец заоблачною Марафона? — спрашивает ею режиссер.
А он молчит.
— Пардон, месье, но вы куда несетесь на австрийских лыжах с крыльями снежными, как небесный шалун? — спрашивает старуха уборщица с международной турбазы Коллит.
А он молчит, по г ому что занят трассой.
Старуха пускается вслед за ним и несется, выставив из-под очков свеколку носа, шепча французские и итальянские добродушные проклятия, ибо кончилась трехдневная лыжная лафа и надо заступать на дежурство.
Я вспоминаю старуху уборщицу в коридоре турбазы. Она идет вслед за утробно жужжащим пылесосом и читает томик Фолкнера или какую-нибудь машинопись.
Однажды, когда турбаза угомонилась и немцы уже спели мощным хором свою «Лорелею», и все ночные перебежки закончились, старуха в ту ночь однажды сидела у дежурного стола, прикрыв веки, словно смазанные парафином, и шептала почти неслышно, но так, что по увядшей коже все-таки пробегали ручейки печали и стародавнего восторга:
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя — красавицу тринадцатого года —
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили, а мне такого рода
Воспоминанье не к лицу. О тень!
Я в это время был в тени скульптурной формы, стоял и баюкал свою ссадину бесконечным курением. Лицо старухи было освещено, как в театре, и я поневоле его видел, хоть и не подсматривал, да и что мне было подсматривать за старухой лыжницей?
Сейчас, однако, я смотрел на ее лицо не отрываясь. Черты комической старухи разгладились, и сквозь весь парафин я увидел вдруг даму белых ночей тринадцатого года.
Однако длился этот мираж мгновение, и вот уборщица уже скривилась в привычной гримасе пройдохи-старушенции, чудачки и вольного казака, и уже загудела себе под нос польский шлягер, вскочила и вытянула ногу в гимнастическом упражнении.
Перемена была мгновенной вовсе не потому, что она увидела меня, соглядатая. Нет, она вдруг испугалась, что отпустила узду, на минуту расслабилась, и дама белых ночей всплыла со дна и глянула на нее, нынешнюю. Вот чей взгляд ее испугал.
Она боялась не из-за горечи, просто с той ей было неудобно, она уже давно привыкла быть смешной старухой путешественницей. Месяц она работает в Сочи, потом нанимается на пароход, потом начинается Эльбрус, лыжи, потом какой-нибудь литфондовский дом, беседы с литераторами, теннисный корт. Швабра и пылесос спокойно и надежно ведут ее в странствиях и открывают все двери. Вот так и она борется за свою лодочку, за чистый и бездумный путь по медовой дорожке и плывет, и плывет все дальше от беспокойного стихотворения.
В конце концов гаси к черту свет, захлопывай окна и открывай двери — огромная ночь чистого и смелого одиночества ждет тебя.
Увы, мы другие люди, у нас у каждого свой «Ледовитый океан», свой пудель и странная жена, докучливые визитеры и тягостные сослуживцы, но есть у нас у каждого своя Железка, которой мы служим и не жалуемся.
— Комплектом! — вдруг дико вскричал Агафон Ананьев и подскочил к Мемозову, вздымая руки, с которых, казалось, летела вода волшебной ванны Архимеда. — Комплектом надо покупать, вот как! Эврика, товарищи, эврика!
— Поясните, — с развязной благожелательностью предложил Мемозов и принял совсем уже непринужденную позу, облокотился на плечо Крафаилова, откинулся, толчком пальца усилил божественную кантилену Моцарта — для комфорта.
Глаза Ананьева пылали мрачным вдохновением.
— Если я комплектом беру, все равно ведь рубль — верно? Значит, я прихожу и беру себе на рубль комплект — дачу и шпульку ниток, а когда мне надо пожрать, продаю шпульку ниток и покупаю себе комплект-банку икры плюс рожок для обуви. Понятно?
— А знаете, он у вас не лишен витаминчика, — сказал Мемозов в близкое ухо Крафаилова.
— Зачем вы так? — с горечью проговорил тот.
— Молодец, веник, — поаплодировал Мемозов и прищурился. — Но вот кому ж ты продашь свою шпульку, если покупателю тоже нужен комплект?
— А я… а я…— беспомощно забарахтался Агафон, чувствуя уже близость новой пучины. — А я никому не скажу. Я один знаю про комплект.
— Ошибаетесь, Меркурий, — холодно процедил Мемозов. — Знают уже трое — вы, ваш директор и, между прочим… я!
— А-а-а! — закричал дружелюб, схватил себя за вихры и вылетел из кабинета.
— Выпал в осадок, — самодовольно констатировал Мемозов.
— Зачем вы так? — Крафаилов осторожно ладонями старался отодвинуть от себя спину авангардиста и чувствовал под ладонями металл.
— Да к чему вам этот веник? — Мемозов вновь спрыгнул со стола и взлетел задиком на подоконник. — На свалку ему пора!
— Он мне дорог, — сухо возразил Крафаилов. — Я за него борюсь.
— Сожрут тебя, Крафаилов, — сказал Мемозов. — До свалки не дотянешь
— Извольте не тыкать! — вскричал розовощекий и огромный мальчик-мускул и вскочил, забыв навыки современного дружелюбия и видя в Мемозове уже не покупателя, а непрошеного гостя, врага всего человеческого коллектива. — Извольте не тыкать и объясниться!
— Напрасно разорался, старик, — Мемозов надел на переносье черепаховое пенсне с далеким огоньком — высоковольтным предупреждением. — Из всех пихтинских замшелых гениев вы самый более-менее любопытный, и при соответствующей психоделической обработке вы можете получиться медиумом.
— Да вы! Да я! Да ты кто такой! Да я таких, как ты, на каждом углу!…— Все интеллектуальное, современное, вся суровая высота и высокая суровость Крафаилова кубарем укатились в глубину десятилетий, в картофельный пищеблок, к столу раздачи, вокруг которого в темноте поблескивали фиксы. — Ты меня трансформаторной будкой не пугай! Мы пуганые!
Мемозов вдруг извлек из подвздошной области миниатюрную дудочку и, прибавив к переливам кантилены пронзительный клич острова Бали, мгновенно усмирил директора.
— Спасибо и извините, — сказал директор, стыдясь.
— В качестве медиума вы будете служить прогрессу вневременных связей, — улыбнулся Мемозов и похлопал его по плечу. — Завидная доля-даже для таких, как вы, пожирателей сердец!
— Что? Простите? Как вы назвали мою категорию? — совершенно растерялся Крафаилов.
— Пожиратели сердец, иначе и не назовешь! — весело крикнул Мемозов. — Вот такие, как вы, молочно-розовые гладиолусы, внешне инертные к призывам пола, на деле и воплощают в себе все идеалы донжуанизма. Пресловутый сатир Морзицер, конечно, все воображает, что пленил вашу благоверную… вздор, нонсенс! — этим псевдочувством она спасается от отчаяния, ибо видит, что и Лу Морковникова, внешне кругя шашни с Самсиком Саблером, лелеет мечту — она сама мне не раз намекала… и тианственная Маргаритка, и даже мадам Натали… вы знаете тип этих ярких дам на грани пропасти, они ищут свой последний шанс, и этот шанс — вы, вы, Аполлинарьич, посмотрите на себя. в профиль и поймите!
Потрясенный Крафаилов смотрел на свой профиль в специальное боковое зеркало, извлеченное Мемозовым из велосипедного кармана. Что же это — Натали… псевдочувство… гладиолус… последний шанс?
Тут появилась на пороге внушительная дама в костюме, похожем на маскировочный комбинезон. Пышные волосы ее струились по плечам, она была весела и спокойна и отнюдь не смущена своим диким костюмом, а, напротив, чувствовала себя в нем уютно и мило, как чувствует себя, должно быть, Диор в своем доме. В сильной руке незнакомка несла болгарскую сигарету «Фемина».
— Я извиняюсь, мне бы товарища Крафаилова побеспокоить.
— Видишь? — жарко шепнул Мемозов Крафаилову через зеркало в ухо. — Еще одна жертва. Итак, вы медиум. Договорились?
— Мне бы, товарищ Крафаилов, приобрести бы у вас десяток-полтора пластмассовых вазочек и пару-тройку художественных картин для буфета. Не возражаете? — пропела дама и прошла к столу, играя кудрями.
«О сладостная!» — в ужасе подумал Крафаилов, впервые так подумал о женщине и умоляюще взглянул на недостойного Ме-мозова: «Друг, не уходи!»
— Ну, не буду вам мешать! Ищите общий язык. Адью! — жутко подмигивая обоими глазами, кашляя, хмыкая, намекая на что-то и головой и руками, Мемозов сел на велосипед и уехал из кабинета.
Все было тихо, выезжал два раза Феб в своей коляске, но вдруг возник девятый вал зловещей масляной окраски, как Айвазовский написал, а он при всей своей закваске из масла воду выжимал весьма умело, без опаски, вообще был славный адмирал.