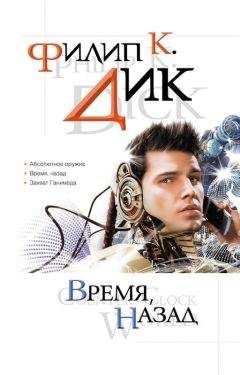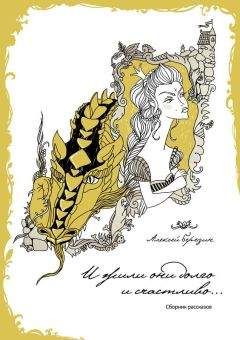Эльчин - Белый верблюд
Молла Асадулла говорил:
- Сын Мейрангулу Ибрагим был хороший парень. Своей чистотой он был похож на пророка Ибрагима. Царь вавилонский Немврод велел бросить Ибрагима в огонь, но пламя не тронуло Ибрагима Халила, так он был чист!.. И там, где горел огонь, вырос цветущий сад...
Когда молла Асадулла рассказывал такие истории, я не двигался с места, стоял и слушал; это производило на меня такое впечатление, что я забывал обо всем на свете и порой приходил в себя только тогда, когда либо горячий чай проливался мне на руки, либо Джафаргулу дергал за руку. Истории моллы Асадуллы порой походили на истории Балакерима, но отличие состояло лишь в том, как мне казалось, что молла Асадулла рассказывал то, что было на самом деле, во всяком случае молла Асадулла рассказывал эти истории не детям, рассказывал их взрослым, и поэтому его истории выглядели достоверными...
Я уже забыл, как Ибрагим показывал нам кино за двадцать копеек, как, когда у нас не было денег, брал за вход конфеты, и лишь две строки, написанные поэтом Ибрагимом, не выходили у меня из памяти:
Когда небо расстегнуло ворот, показалась луна!
Когда ты расстегнула ворот, показалось солнце!
Правда, я не понимал смысла этих строк, но эти две строки (они, возможно, действительно были не Ибрагима, но это не имело значения!..) после гибели Ибрагима будто стали самой горестной тоскливой песней на свете; тогда маленький Алекпер не понимал, что такое смерть, но горестная, тоскливая песня, зазвучавшая в душе со строками поэта Ибрагима, трогала меня, наполняла глаза слезами, мне хотелось плакать, и перед моим мысленным взором возникал тот цветущий сад, о котором говорил молла Асадулла, и растущие в том саду красные, оранжевые, фиолетовые цветы тоже были в тоске и печали.
Ночью, перед тем как заснуть, я представил себя на месте поэта Ибрагима: как будто погиб на войне не поэт Ибрагим, а я сам, и палатка перед домом дяди Мейрангулу сооружена в мою честь, и все мужчины округи собрались в палатке в знак траура по мне, и молла Асадулла меня уподоблял пророку Ибрагиму Халилу; перед моими глазами проходили лица всех мужчин махалли, и я, с одной стороны, горевал сам по себе, мне было жаль, что я погиб на войне, а с другой - я гордился собой, потому что сражался, потому что погиб на войне, потому что все мужчины махалли ради меня собрались в эту палатку, и пожилые женщины, молодухи, девушки плакали обо мне; потом мне показалось, что вавилонский царь Немврод хочет сжечь меня, и я почувствовал жар пламени, но не испугался, потому что пламя должно было превратиться в цветущий сад и в саду выросли бы красивые, оранжевые, фиолетовые цветы.
Во второй раз у нас в округе похоронка пришла в дом тети Фирузы, и на этот раз палатка была сооружена перед домом тети Фирузы; потом палатка стала ставиться часто, от одного дома переселялась к другому; эта палатка превратилась как бы в Белого Верблюда: поставленная у ворот, она возвещала о горестных делах мира сего.
Однажды я спросил у Балакерима:
- А почему Белый Верблюд не ляжет у ворот Гитлера? Балакерим, будто зная все заранее, многозначительно усмехнулся:
- Ляжет, Алекпер, ляжет... Персы, знаешь, что говорят, Алекпер? Спроси у отца, он должен знать, персы сказали: хар сухан джаиз, хар ногта мегам дарест... (Каждая точка ставится тогда, когда приходит момент (перс.).)
Я, конечно, не понимал смысла сказанных персами слов, но в произношении, в музыке этих слов были покой и тишина; однако покоя и тишины не осталось в нашей махалле.
Только однажды палатка не была поставлена: когда пришла похоронка на часовщика Гюльагу - мужа маминой тезки Соны; несколько мужчин, не пошедших на войну то ли по болезни, то ли по возрасту, то ли по другой какой причине, хотели поставить палатку перед домом Гюльаги, но Сона не позволила, подняла крик, не стала держать траур, потому что Сона не верила в гибель Гюльаги и кричала, и объясняла людям, что похоронка - ложная. Всем было жаль Сону, женщины махалли плакали по ушедшему молодым, спокойному, никого не обидевшему красивому Гюльаге, плакали и о бедной Соне, говорили, что Сона помешалась; но много об этом не судачили, а когда говорили, то с болью, со слезами на глазах.
В самом конце нашей улицы, на углу стояли рядом три лавки: мясная, хлебная и керосиновая, и жители махалли всегда покупали мясо в лавке у мясника Дадашбалы (горох, рис, сахар, соль и масло тоже продавались здесь); но когда началась война, лавка закрылась, и мясник Дадашбала стал чайчи; на поминках ставил самовары, ездил в Грузию, закупал и привозил сухой чай, заваривал чай и никогда не оставался без дела; он же и зарабатывал лучше всех, но называли его по-прежнему - мясник Дадашбала; мама и другие всю ночь стояли в очереди перед хлебной лавкой: лавка, перед которой выстраивалась очередь, открывалась рано утром и, быстро опустев, закрывалась; за керосином ходили мы и тоже выстаивали в многочисленных очередях, но скоро и керосин кончился (керосин, как и мужчины, шел на войну); через некоторое время исчезли из наших домов и керосинки, и керосиновые лампы.
Перед нашим тупиком больше не стояли рядышком автобус и четыре полуторки, потому что не только наша улица, не только наш тупик, но и двор наш пустел: сначала на войну ушли Джафар, Адыль, Абдулали, потом Годжа, и тетя Ханум осталась только с Джебраилом да с Агарагимом.
Началась война, и мы быстро усвоили, что горе кружит над теми домами, где есть сыновья, мужья, отцы, братья, и, конечно, никому не пришло в голову, что несчастье войдет в дом шапочника дяди Абульфата, у которого было пять дочерей (если женщины собирались вместе, тетя Мешадиханум говорила: "Есть и такое счастье - одних дочек иметь!.. Вон Фатьма! Пятеро детей, и все дочки, ни одна на войну не пойдет").
Когда перед домами нашего квартала стали сооружаться палатки, когда мясник Дадашбала, отбросив в сторону пень и секач, стал заниматься приготовлением чая, когда мама до утра стала простаивать в очередях перед хлебной лавкой (карточек еще не ввели), все довоенные события вдруг остались в далеком-далеком прошлом, и моя жизнь, как железный прут, согнутый посредине, вдруг разделилась: на жизнь до того, как началась война, и жизнь после того, как началась война.
И радостный вечер в цирке, и краски цирка, которые жили и переливались в моей памяти, для восьмилетнего Алекпера остались в далеком прошлом; лишь изредка, когда я видел на улице Адилю, воспоминания о цирке возникали из далекого прошлого, несли тепло, но это теплое дыхание быстро остывало. Адиля исчезала за углом, и мои воспоминания возвращались в недосягаемую даль; в махалле, и вообще в моей жизни больше не было ничего такого - ни событий, ни ощущений, способных вернуть из страшной дали "Письмо любви"; и странное дело даже толстые длинные каштановые косы Адили тоже словно потеряли свой блеск, стали обыкновенными косами.
Одно время я, завидев Адилю на улице, убегал и прятался от смущения.
Дело было в том, что однажды отец, вернувшись из очередного рейса, сказал маме:
- Уж очень ненадежным стал этот мир, баджи... Рано или поздно я тоже пойду на фронт. Хочу увидеть хоть маленькую свадьбу Алекпера...
До войны обрезание у нас в округе превращалось в праздник (это было как бы подготовкой к будущей свадьбе) ; но на этот раз никакого празднества не было, отец нашел умельца лезгина, привел его, и все прошло очень обыкновенно; необычность была только в том, что я обмотал бедра ярко-красным полотнищем, фитой, и через два дня после обрезания с ярко-красным полотнищем на бедрах вышел на улицу играть с ребятами.
Мы всегда с завистью смотрели, как мальчики постарше нас играли на улице, обмотавшись красным полотнищем; теперь я и сам вырос, я и сам обмотал бедра ярко-красным полотнищем, и, по правде говоря, это красное полотнище на бедрах было единственной радостью в моей жизни с тех пор, как началась война.
На улице, у всех на глазах, я держался очень гордо, потому что вырос, потому что у меня на бедрах было красное полотнище; только при виде Шовкет я делал вид, что не замечаю ее, и - это было сильнее меня - спешил забежать в наш двор, да еще от Адили прятался, не хотел, чтобы Адиля увидела меня с красным полотнищем: Адилю я тоже стеснялся, хотя по-другому.
Шовкет опять время от времени сидела перед своим домом, на деревянной лавочке рядом с раздвоенным тутовым деревом, но уже не грызла семечки, как прежде, потому что тетя Зиба уехала в Америку и вообще семечек больше не было, и Шовкет не хохотала, как прежде, лишь иногда улыбалась, и, хотя у Шовкет не было никого, кто уходил бы на войну, в ее улыбке тоже была какая-то грусть. Все это было так, но, когда я, обмотав бедра ярко-красным полотнищем, выходил на улицу, Шовкет снова, как прежде, подмигивала мне, тихонько спрашивала: "Очень больно было?" - и посмеивалась.
Несмотря на эти слова, я все же не обижался на Шовкет, а просто убегал во двор и не выходил на улицу, будто и это было игрой между Шовкет и мной.