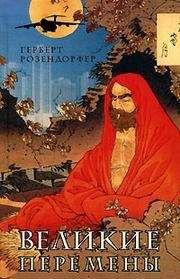Герберт Розендорфер - Письма в древний Китай
На улице же толпится масса серых, груболиких людей с безрадостным взглядом. Я уже говорил, что мысли большеносых легко прочесть по их лицам. Почти на всех лицах написана лишь нелюбовь к окружающему миру. Возможно, это от коровьего молока, которое они употребляют столь неумеренно? Или же это постоянное недовольство — результат их суетливой жизни, их неизбывного стремления все шагать и шагать куда-то? А сами они этого просто не замечают?
Я и не предполагал, что у большеносых имеются народные увеселения; однако они есть. Уверяю тебя: это еще хуже, чем даже их вечное недовольство. С тех пор, как господин Ши-ми возил меня смотреть на эти увеселения, прошло уже довольно много времени: это было еще до того, как я написал предыдущее письмо. Они считаются крупнейшим празднеством года и длятся около половины лунного месяца, объяснил он. Называют их «Праздником осенней Луны» и проводят на огромном лугу неподалеку от центра города. Описать их невозможно. За всю свою жизнь я, пожалуй, не видел вещи, которая вызвала бы у меня большее отвращение. Тем не менее я провел там несколько часов. Уже издали было видно зарево над домами, точно там разгорался невиданный пожар. Чем ближе мы подходили, тем громче и невыносимее становился шум. Хоть я и привык передвигаться по городу без всякого страха, здесь я вынужден был крепко ухватиться за рукав господина Ши-ми. Со всех сторон на меня обрушивались визг, треск, звон, издаваемые тысячами бубенцов, барабанов и трещоток. Оказалось, это — музыка. Чтобы расслышать друг друга, нам приходилось кричать во все горло. «Что сказал бы мастер Бэй Тхо-вэнь, если бы услышал все это?» — прокричал я. «Он же был глухой!» — крикнул господин Ши-ми мне в ответ. «Да, теперь я понимаю!» — воскликнул я.
Сначала я просто ничего не видел. Когда же глаза мои привыкли к слепящему, мелькающему и вспыхивающему свету бесчисленных ламп, я разглядел огромные вертящиеся колеса и парящие в высоте качели; в них болтались большеносые, одержимые отчаянной храбростью — или, скорее, самоубийственным желанием узнать, что чувствует выпущенный из пращи камень. Кругом воняло, ибо эти увеселения, очевидно, подразумевают и возможность справлять нужду везде, где бы она ни дала о себе знать, а поскольку важнейшим из увеселений большеносые считают поглощение неограниченного количества Бо-шоу и Ма-люй, то и опорожняться им приходится часто и помногу.
Я, конечно, отказался от удовольствия поездить на гигантском колесе или болтающихся цепях. Но после того, как я — все еще крепко держась за рукав моего верного друга — в течение почти целого часа осматривал это празднество, мне ничего не оставалось, как последовать за господином Ши-ми в одно из «питейных заведений». Это оказался огромный шатер, где из-за человеческих испарений пахло, как в конюшне. Группа музыкантов на небольшом возвышении в середине шатра исполняла громкую и резкую музыку, не имеющую ничего общего с музыкой мастера Бэй Тхо-вэня. Большинство людей было одето в странные зеленые одежды, а на головах у них были смешные маленькие шляпы[42]. Невероятно толстые служанки, которых, по словам господина Ши-ми, долго учат одному-единственному трюку — носить в руках по десять, двенадцать и больше кружек Бо-шоу одновременно, пробирались от стола к столу, раздавая кружки. Платить надо сразу. Большеносые — многие со странными украшениями, бумажными цветами или хвостиками каких-то животных на шляпе — хлопали себя по бедрам и вопили без видимых причин. Не успеет служанка принести кружки, как они, широко разинув рот, уже опрокидывают их целиком себе в глотку. Через определенные промежутки времени музыканты, и без того заглушающие своей музыкой все на свете, исполняют одну и ту же короткую, но, судя по всему, чрезвычайно любимую публикой песню, смысл которой остался мне не совсем ясен. Сначала они выкрикивают какие-то слова, после чего следует три страшных удара по огромному барабану. По этому знаку все поднимают свои Бо-шоу, и каждый заливает в себя столько, сколько может поглотить за один раз. Затем все начинают дико вопить и звать служанок, чтобы те принесли новые кружки. Тогда в шатер с улицы вкатывают огромные бочки, и здоровенные демоны в кожаных фартуках, с ладонями как лопаты, протыкают эти бочки в известных местах, чтобы жидкость хлынула в кружки.
Ясно, конечно, что захмелевшие большеносые в самом скором времени начинают спорить друг с другом или с подносящими кружки служанками. Этот спор моментально переходит в драку, и тогда появляется еще один демон с руками-лопатами: он хватает смутьяна, беспомощно болтающего ногами, и вышвыривает из шатра вон. Все это сопровождается более или менее сочувственными воплями его товарищей, после чего музыканты снова заводят любимую песню, и все подхватывают ее грубыми, низкими голосами.
Продолжается это примерно до полуночи; тогда свет в шатре гасят и бочек больше не вкатывают. Одни из большеносых к тому времени уже лежат под столами, другие же, совсем опьянев, принимаются колошматить кружками по столу, требуя еще Бо-шоу. Но им не дают. Следует воздать должное мудрости городской управы, ограничивающей распитие этого напитка: очевидно, из страха перед тем, что иначе большеносые разнесут весь город. Музыканты тоже собирают свои инструменты. В шатре раздаются лишь брань да отрыжка пьяных. Наконец они расползаются по домам.
Пошли и мы, ступая с осторожностью, чтобы не угодить в дерьмо или блевотину; я был совершенно оглушен. Большеносые же выдерживают все это четырнадцать дней подряд. Видимо, таким образом они пытаются забыть о своем недовольстве или изгнать его из своей души силой. Некоторые — из тех, конечно, кто еще способен держаться на ногах, — бросают в воздух шапки и издают громкие нечленораздельные крики. Многие садятся в свои повозки Ma-шин и нередко наезжают на дерево, вызывая у остальных неудержимый хохот. Таковы увеселения большеносых. Я спросил господина Ши-ми: неужели ему это тоже нравится? Нет, отвечал он, ему просто хотелось, чтобы я увидел и это, ведь я хочу узнать о них побольше. Что ж, в этом он прав.
Другое подобное празднество устраивается, по словам господина Ши-ми, зимой. В отличие от «Праздника осенней Луны», от которого можно уклониться, просто не пойдя на него, этот праздник происходит везде, так что избежать его нельзя. Я его тоже еще застану, предупредил он меня. Подробности он, впрочем, рассказывать не стал.
Сейчас, когда я пишу эти строки, «Праздник осенней Луны» уже завершился. Заканчивают его так же быстро, как и начинают. Большеносые ломают питейные шатры и увеселительные заведения, собирают и увозят обломки. На лугу остаются лишь кучи мусора и дерьма. Как они поступают с ними, я не знаю. Вероятно, они полагаются на дожди, идущие здесь достаточно часто, так что к началу следующего «Праздника осенней Луны» все будет смыто. С дерьмом же, лежащим на улицах города, происходит, по моим наблюдениям, следующее. Большеносые в своих повозках Ma-шин ездят по нему с огромной скоростью, оно раздавливается, измельчается и в конце концов уносится ветром. От этого-то воздух и полон жирной копоти, к которой сами большеносые, впрочем, давно привыкли. Меня удивляет лишь, как ее выносят животные и растения. Я много думал над этим, но ответ на свой вопрос нашел только позавчера. Дело в том, что позавчера я в горнице постоялого двора познакомился с одним чрезвычайно интересным человеком. Представь себе: просторная горница, состоящая, собственно, из нескольких выложенных коврами, соединенных друг с другом лесенками и мостиками маленьких, очень уютных горенок, и всюду столики и удобные кресла. Ими может воспользоваться любой из гостей. Время от времени появляются слуги и спрашивают, не изволит ли гость чего-нибудь пожелать. Я люблю сидеть в этих горенках, потому что людей здесь всегда довольно много (среди них есть и женщины), так что мне есть за чем понаблюдать, да и беседы завязываются легко.
Так я и встретился позавчера здесь, внизу, с одним господином, который показался мне не принадлежащим к самому примитивному типу большеносых. Он был велик ростом, как почти все большеносые, и у него была могучая черная борода. Когда я вошел в горницу, он уже сидел там и читал книгу. Свободных столиков не было, поэтому я подошел к нему, сделал одну треть поклона и спросил:
— Позволит ли высокопочтенный бородатый мандарин, чье добросердечие и долготерпение, несомненно, заслуживают восхищения даже далеких правнуков, недостойному представителю далекого и малозначительного народа осквернить своим присутствием чистейший воздух, незримо парящий над этим замечательным столиком?
Бородатый господин поднял глаза, поглядев на меня сначала с некоторым недоумением, но потом показал зубы и произнес: «Пожалуйста». Вот и все, что он сказал: «Пожалуйста». Формулами вежливости большеносые пренебрегают. Мне это давно известно; я знаю также, что мои вежливые выражения — хотя я, как ты мог заметить хотя бы по вышеприведенному обращению, и так сокращаю их почти до неприличия — непонятны большеносым и вызывают у них скорее отрицательные чувства. Однако отвыкнуть от привычки к вежливой речи я не могу, да и не хочу этого делать. Я не нахожу в себе сил отказаться от тех принципов, которые были заложены воспитанием и бессмертным (хотя могу ли я теперь хоть что-то назвать «бессмертным»?) учением Кун-цзы. Перевоспитать жителей этого мира я не надеюсь; просто я так чувствую себя лучше. То же самое я сказал и госпоже Кай-кун, когда она попросила меня хотя бы во время любовного акта не употреблять формул вежливости и хвалебных описаний тех или иных частей ее совершенного тела.