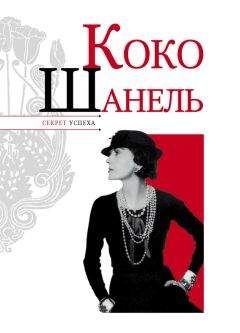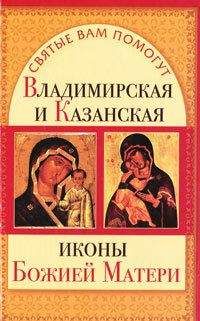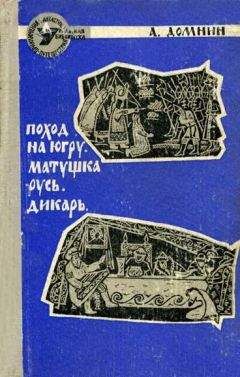Ана Матуте - Первые воспоминания. Рассказы
Тут мы услышали голос Борхи — он звал нас со скалы, сложив рупором руки. Какой он был высокий в новых брюках!
— Борха, — сказала я и, кажется, побледнела. Я только что выдала нашу тайну и совсем не была уверена, что он еще раньше не выдал ее Гьему. Я соскочила с лодки. Мануэль не двигался.
Борха стал спускаться к берегу. Он всегда говорил, что идти здесь очень опасно. На этих скалах упал, пытаясь бежать, Хосе Таронхи. И вдруг я поняла: «Ох, какая же я дура! Здесь убили Хосе, а я привела Мануэля…» В лодке еще были видны пробоины, а я заставила его сесть на ее борт. Но Мануэль, как всегда, спокойно молчал. «Да, он слишком, невыносимо хороший», — тревожно подумала я.
Борха подошел к нам. Я боялась, что он очень злится, но он ничего не говорил и улыбался (точно так, как улыбался по утрам бабушке). Увидев эту улыбку, я поняла, что я уже — по другую сторону барьера. Мне стало до боли грустно.
— Водишь сюда друзей? — спросил Борха. — Прекрасно, прекрасно…
Он сел и протянул нам сигареты. Мануэль не курил, я — лицемерно отказалась. Борха стал пороть какую-то чушь. Потом замолчал. Потом сказал:
— Холодно.
И пошел к морю, остановился, оглядел его. Действительно, стало холодно. Вода была темно-серая, волны — какие-то грозные. Борха нагнулся, набрал в горсти ракушек, вернулся к нам и аккуратно положил их в лодку. Несколько минут он раскладывал их по размеру. Мы смотрели на него с тем любопытством, которое возбуждают порой всякие мелочи и глупости.
Вдруг он поднял голову, и меня поразила тоска в его глазах.
— Мануэль, — сказал он. — Слушай, Мануэль, хочешь оказать мне услугу?
Я открыла рот и тут же закрыла. Я не знала, как защитить своего друга от этой мольбы. Мануэль стоял, прислонясь к лодке там, где были пробоины. Борха подошел ближе и положил ему руку на плечо.
— Мануэль, — настаивал он. — Знаешь, тебе все наврали… В сущности, я тебе не враг. Ты ведь лучше, чем Хуан Антонио. Я всегда тебя больше любил. А ты не обращал внимания…
Мануэль прямо взглянул на него — таких глаз я у него еще не видела.
Борха быстро, сбивчиво говорил:
— Окажи мне услугу. Это очень важно для меня и для Матии… Иначе бы я к тебе не пришел. Понимаешь, Матия, бабушка узнала про наш клад. Кто-то наябедничал. Наверное, Китаец — его ведь увольняют… А впрочем — не знаю, да и не важно! С предателем я рассчитаюсь. Ты понимаешь, Матия, что это для нас значит? Надо, чтобы она тут ничего не нашла!
Мне показалось, что в глазах Мануэля снова появилась почти гневная тоска, некогда овладевшая им, или презрение ко всему, даже к самому себе. Он был очень похож сейчас на Хорхе Сон Махора. На его юном лице была почти такая же усталость, словно ему так же надоело жить. Борха казался рядом с ним тщедушным и незначительным. Я снова подумала: «Если б он захотел, он бы его свалил одним ударом».
— О чем ты? — резко перебил Мануэль. — Что ты хочешь?
Борха странно взмахнул руками, и я почему-то вспомнила бабушку.
— Ну… я не могу объяснить подробно, ты не проси… И Матия не может — правда, Матия? Если бабушка что-нибудь найдет… а она найдет, она тут все обыщет. Возьми мою лодку и отвези к Марине то, что я дам. Ты ведь его знаешь?
— Да, — сухо ответил Мануэль.
— Передай ему это и скажи, пусть хранит. Мы заберем, когда пройдет опасность. У него ничего не пропадет, а нас ты спасешь от бабушкиной ярости.
Я удивлялась и не совсем понимала Борху. Он вскочил в лодку, вынул сверток, вынул ящичек с крадеными деньгами, рассеянно потер его и протянул Мануэлю.
— Отвези его Марине… но про нас не говори, он человек неверный. Скажи: «Сохрани это для меня, я за ним вернусь».
Мануэль, не двигаясь, смотрел на ящик.
— Не отказывай мне… Я тебя умоляю! Это очень важно для нас! Я только тебе верю. Тем доверять нельзя… И потом… разве ты забыл, что я давал тебе лодку?
При этих словах Мануэля как будто ударили. Борха отступил. Мануэль вырвал у него ящик и молча направился к «Леонтине». Борха пошел за ним, стряхивая с брюк песок. Он очень волновался, словно долго от кого-то бежал.
— Пусть хранит! — задыхаясь говорил он. — Слышишь? Пусть он его хранит…
— Замолчи, — сказал Мануэль.
Борха умолк. Как тогда, Мануэль уплывал, а мы смотрели ему вслед. Как тогда, я покосилась на Борху и увидела, что у него белые губы.
И как тогда, мы вернулись домой по скалам.
IIIБольше я не видела Мануэля. Дни бежали быстро, и рождество пришло скорей, чем мы ждали. Сведения о дяде Альваро и о войне стали конкретней. Бабушка готовила подарки для бедных. Это были первые военные святки, и бабушка говорила, что их надо праздновать скромно. Однако Лоренса и Антония трудились у плиты вовсю. Как тяжелый сон, я вспоминаю бесконечные праздничные трапезы. Половину времени мы проводили в церкви, половину — за столом. В церковь мы шли с тяжелой головой и, напитавшись светом, ладаном и песнопениями, возвращались к еде. (У нас с Маурисией бывало совсем не так. Мы собирали охапки еловых веток, делали игрушечные ясли и расставляли там раскрашенные глиняные фигурки, которые Маурисия покупала на базаре.)
Отец Майоль предстал во всем своем блеске. Бабушка не зря говорила, что в нем есть что-то царственное. Сочельник мы справляли у него; там были викарий, доктор-вдовец и Хуан Антонио, проводивший дома каникулы. Потом пришли управляющий с женой и сыновьями и еще один священник, который специально приехал, чтобы служить рождественскую мессу.
Собор сверкал. Отец Майоль и два других священника — викарий и приезжий — были в бледно-розовых ризах, расшитых золотом и жемчугом. В хоре пели дети, девочки и мальчики. От блеска болели глаза. Мы с Борхой поддерживали друг друга. Кажется, он слишком много выпил и все время засыпал. Отец Майоль воздевал руки медленно и величаво, как ангел, его красивая седая голова отливала серебром.
Первый день рождества был скорее невеселый. Антония спросила:
— Ты молилась вчера за маму?
— Это мое дело, — ответила я.
Но меня грызла совесть — я о маме и не вспоминала. Только на секунду, за ужином, вспомнила о папе. «Как странно! Я всегда так далеко от него, а помню запах его сигар, его кашель, слова…» Где он? Что делает?
Вечером пришли старые девы из Сон Льюча в жутких шляпах, отец Майоль, викарий и третий священник. Ну и, конечно, доктор с Хуаном Антонио и семья управляющего. «Все те же, все то же самое…» Мальчики говорили о школе — после праздников Борха ехал туда, где учился Хуан Антонио. Они-то будут вместе, а я…
— Как называется моя школа? — спросила я у бабушки без особого интереса.
В день святого Стефана я пошла на откос, надеясь встретить Мануэля. Его не было; я села у стены и играла камушками, пока меня не позвала Антония.
Бабушка требовала к себе нас с Борхой.
— Лауро идет на фронт, — сказала она, — как только вы уедете в школу.
— Ты же говорила, что он освобожден? — спросил Борха. — Глаза плохие… его ведь за это не взяли в священники.
— Теперь это не важно, — сказала бабушка и прибавила: — Идите, поздравьте его.
Мы неохотно пошли. Лауро был с Антонией в гладильной. Мы робко остановились в дверях. Антония сидела на низком стульчике и пришивала красные метки к нашему белью. Китаец смотрел на нас сквозь зеленые очки. Гондольер летал над ними, крича: «Лаур-ро, Лаур-ро, Лаур-ро… Попка дур-рак», и тревожно садился нам то на головы, то на плечи. Ни мать, ни сын не произносили ни слова. Лауро обнял колени. В жизни я не видела такого невоенного человека. Первым заговорил Борха:
— Лауро, бабушка говорит, что ты идешь на фронт.
Китаец медленно встал и поднял на лоб очки. Антония сидела, опустив голову. Она держала одну из тех гнусных рубашек, в которых я спала раньше, в школе, и выпарывала старую метку, чтобы пришить новую.
— Может, увидишь моего отца… — сказал Борха.
Китаец молчал. Я не смотрела на него. Я видела только копчики ножниц, жестоко сверкавшие над бельем.
— Бабушка говорит, надо тебя поздравить.
Блестящая капля упала туда, где были раньше номера и буквы. Я повернулась и выбежала, словно хотела скрыть тайну. Почему-то я стала искать полузабытого Горого. И не нашла.
В день трех волхвов, утром, бабушка вручила нам подарки — книги, вечные ручки, свитера. Кончилась добрая пора игрушек, и теперь, как говорили взрослые, подарки стали проблемой. (Маурисия клала в камин мой башмак. Туда помещалось немного, и она связала мне огромный чулок — «таких самых цветов, как плащ у святого Иосифа». Все папины подарки мне дарили волхвы с Востока, а чуть раньше, под рождество, я глядела на тучи и спрашивала: «Маури, это и есть дорога на Восток?» Как-то мне подарили клоуна с меня ростом, и я его обняла. Ах, зачем вспоминать?)
Мы взяли бабушкины подарки и поцеловали ее. Тетя Эмилия подарила мне флакон французских духов. «Ты уже большая», — сказала она и тоже меня поцеловала. (В эти дни все целовались слишком много.)