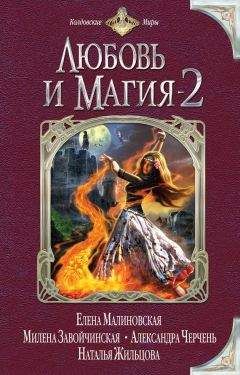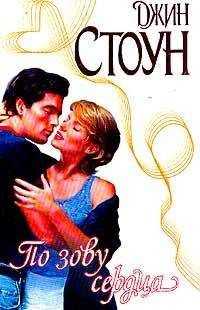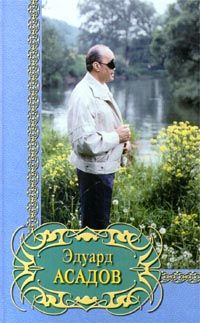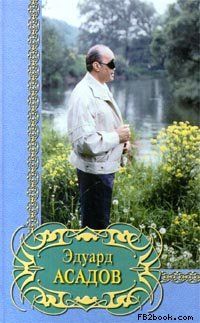Эдуард Асадов - Что такое счастье. Избранное
Насколько мне известью, Владимиру Полякову принадлежит еще одна развеселая эпиграмма, на сей раз на поэта Алексея Фатьянова. Известно, что Фатьянов является автором слов многих превосходнейших песен, которые вся страна распевала в послевоенные годы, да и не забывает до сего дня. Назову только некоторые: «Где же вы, друзья-однополчане?», «На солнечной поляночке», «Соловьи, соловьи» и другие. Но Фатьянов дружил не только с поэзией, а, как говорится, был на ты еще и с «зеленым змием». И Поляков не выдержал, разразился очередной эпиграммой:
Видел я Фатьянова
Трезвого, не пьяного.
Трезвого, не пьяного?
Значит, не Фатьянова!
Вспомнилась мне сейчас еще одна шутка. Но вот сижу и думаю… приводить ее тут или не приводить? Потому что написана она, говоря откровенно, на грани допустимого. И все-таки эпиграмма настолько смешна, что, пожалуй, приведу. Слишком стыдливых, просьба, не читать…
Но сначала — небольшое пояснение. В пору моего уральского детства работал на свердловском радио знаменитый на весь Урал диктор Федор Тайц. Он был, если так можно сказать, уральским Левитаном. Читал по радио и последние известия, и литературные произведения, вел спортивные передачи и принимал участие в множестве радиоинсценировок. Так что знал его практически весь Урал. И вот, когда Тайцу исполнилось шестьдесят лет, юбиляра торжественно чествовала вся общественность — от Серова до Магнитогорска. Но главное празднество происходило в одном из самых крупных залов Свердловска. Помимо официальных были поздравления и для узкого круга. Одно, безымянное, получилось скабрёзным, но довольно смешным. Вот оно:
Старые яйца уныло висят,
Федору Тайцу уже шестьдесят.
Федор Матвеич, горюй не горюй,
Старость — не радость, палец — не х..!
Говорят, что после чествования уральский Левитан сам от души хохотал над этой эпиграммой.
Ну а в заключение — о поэте Николае Глазкове и связанных с ним казусах. Надо сказать, что в ту пору в Союзе писателей поэтическая жизнь била ключом. Ежегодно выпускался в свет сборник под названием «День поэзии», куда поэты приносили стихи и поэмы. Принес однажды свою поэму и Николай Глазков. Смысл ее был и прост, и несколько необычен. Состоял же он в следующем: герой поэмы, а в данном случае сам автор, везет девушку на лодке к какому-то острову. Едет и горячо убеждает ее по приезде на остров непременно ему отдаться. Зачем она должна это сделать? Аргументация была абсолютно железной: интимная близость вдохновит поэта, и он непременно одарит родную литературу чем-то прекрасным, а может быть, и попросту гениальным. Вот, собственно, и вся фабула. Дева должна была понять, с кем она едет, глубоко взволноваться и там, на острове, во имя российской поэзии подарить себя великому автору!
Был Николай к тому же большим любителем выпить и, встречаясь с товарищами за дружеским столом, непременно вставал и произносил первый тост: «Предлагаю выпить за гения Глазкова!» Все весело смеялись, но тем не менее пили. А почему бы и нет? Пусть Коля потешится! Ценили поэта Глазкова и за его миниатюры — особенно сатирические. Запоминались они сразу и навсегда. Приведу два примера: в годы Великой Отечественной и сразу после нее в Москве по примеру знаменитых «окон РОСТА» выпускались так называемые «окна ТАСС». За стеклами магазинных витрин выставлялись плакаты с рисунками на политические темы и стихотворными подписями. И вот по поводу этих самых прославленных окон ТАСС Глазков написал такую эпиграмму:
Мне говорят, что окна ТАСС
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз…
Но это ж не поэзия!
А вот еще одна его эпиграмма, так сказать, философского плана:
Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый — век необычайный:
Чем эпоха интересней для историка,
Тем она для современника печальней…
Это о прошлом, истекшем веке. Впрочем, только ли о нем?
13 марта 2001 года, Москва.
ПЕСНЬ О БЕССЛОВЕСНЫХ ДРУЗЬЯХ
Медвежонок
Беспощадный выстрел был и меткий.
Мать осела, зарычав негромко.
Боль, веревки, скрип телеги, клетка…
Все как страшный сон для медвежонка.
Город суетливый, непонятный,
Зоопарк — зеленая тюрьма,
Публика снует туда-обратно,
За оградой высятся дома.
Солнца блеск, смеющиеся губы,
Возгласы, катанье на лошадке.
Сбросить бы свою медвежью шубу
И бежать в тайгу во все лопатки!
Вспомнил мать и сладкий мед пчелы,
И заныло сердце медвежонка,
Носом, словно мокрая клеенка,
Он, сопя, обнюхивал углы.
Если в клетку из тайги попасть,
Как тесна и как противна клетка!
Медвежонок грыз стальную сетку
И до крови расцарапал пасть.
Боль, обида — все смешалось в сердце.
Он, рыча, корябал доски пола,
Бил с размаху лапой в стены, дверцу
Под нестройный гул толпы веселой.
Кто-то произнес: — Глядите в оба!
Надо стать подальше, полукругом.
Невелик еще, а сколько злобы!
Ишь, какая лютая зверюга!
Силищи да ярости в нем сколько,
Попадись-ка в лапы — разорвет! —
А «зверюге» надо было только
С плачем ткнуться матери в живот.
Бенгальский тигр
Весь жар отдавая бегу,
В залитый солнцем мир
Прыжками мчался по снегу
Громадный бенгальский тигр.
Сзади — пальба, погоня,
Шум станционных путей,
Сбитая дверь вагона,
Паника сторожей…
Клыки обнажились грозно,
Сужен колючий взгляд.
Поздно, слышите, поздно!
Не будет пути назад!
Жгла память его, как угли,
И часто ночами, в плену,
Он видел родные джунгли,
Аистов и луну.
Стада антилоп осторожных,
Важных слонов у реки, —
И было дышать невозможно
От горечи и тоски!
Так месяцы шли и годы.
Но вышла оплошность — и вот,
Едва почуяв свободу,
Он тело метнул вперед!
Промчал полосатой птицей
Сквозь крики, пальбу и страх.
И вот только снег дымится
Да ветер свистит в ушах!
В сердце восторг, не злоба!
Сосны, кусты, завал…
Проваливаясь в сугробы,
Он все бежал, бежал…
Бежал, хоть уже по жилам
Холодный катил озноб,
Все крепче лапы сводило,
И все тяжелее было
Брать каждый новый сугроб.
Чувствовал: коченеет.
А может, назад, где ждут?
Там встретят его, согреют,
Согреют… и вновь запрут…
Все дальше следы уходят
В морозную тишину.
Видно, смерть на свободе
Лучше, чем жизнь в плену?!
Следы через все преграды
Упрямо идут вперед.
Не ждите его. Не надо.
Обратно он не придет!
Пеликан
Смешная птица пеликан:
Он грузный, неуклюжий,
Громадный клюв, как ятаган,
И зоб — тугой, как барабан,
Набитый впрок на ужин…
Гнездо в кустах на островке,
В гнезде птенцы галдят,
Ныряет мама в озерке,
А он стоит невдалеке,
Как сторож и солдат.
Потом он, голову пригнув,
Распахивает клюв.
И, сунув шейки, как в трубу,
Птенцы в его зобу
Хватают жадно, кто быстрей,
Хрустящих окуней.
А степь с утра и до утра
Все суше и мрачнее.
Стоит безбожная жара,
И даже кончики пера
Черны от суховея.
Трещат сухие камыши…
Жара — хоть не дыши!
Как хищный беркут над землей,
Парит тяжелый зной.
И вот на месте озерка —
Один засохший ил.
Воды ни капли, ни глотка.
Ну хоть бы лужица пока!
Ну хоть бы дождь полил!
Птенцы затихли. Не кричат.
Они как будто тают…
Чуть только лапами дрожат
Да клювы раскрывают.
Сказали ветры: «Ливню быть.
Но позже, не сейчас».
Птенцы ж глазами просят: «Пить!»
Им не дождаться, не дожить.
Ведь дорог каждый час!
Но стой, беда! Спасенье есть,
Как радость, настоящее,
Оно в груди отца, вот здесь!
Живое и горящее.
Он их спасет любой ценой,
Великою любовью.
Не чудом, не водой живой,
А выше, чем живой водой, —
Своей живою кровью.
Привстал на лапах пеликан,
Глазами мир обвел
И клювом грудь себе вспорол,
А клюв как ятаган!
Сложились крылья-паруса,
Доплыв до высшей цели,
Светлели детские глаза,
Отцовские — тускнели…
Смешная птица пеликан:
Он грузный, неуклюжий,
Громадный клюв, как ятаган,
И зоб — тугой, как барабан,
Набитый впрок на ужин…
Пусть так. Но я скажу иным
Гогочущим болванам:
— Снимите шапки перед ним,
Перед зобастым и смешным,
Нескладным пеликаном!
Дикие гуси