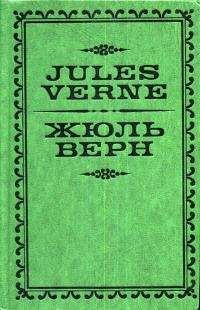Елена Чижова - Преступница
Хозяева разговаривали по-русски. Их русский был свободным. Разговор касался незначащего: все, сидевшие вокруг стола, старательно обходили сегодняшние события. В какой-то миг Маше пришло в голову, что за отсутствием перевода ровно ничего не стояло, и внимательные взгляды, которые она ловила на себе, - плод воображения. Официант принес пирожные: кусочки хлеба, cмазанные чем-то сладким, вроде варенья, и посыпанные длинными зернышками, похожими на тмин. Национальное блюдо хозяева ели с удовольствием, и, постеснявшись обидеть, Маша взяла и надкусила.
Такого ужасного, сладко-терпкого вкуса, она не ожидала. Зубы жевали по инерции, погружались в липко-хлебную массу, но язык, мгновенно распухший в горле, не давал вдохнуть. Взмокшие лопатки свело холодным ужасом, и, улыбаясь одними губами, Маша медленно поднималась с места. Они смотрели, не понимая, когда, зажав горло обеими руками, ленинградская студентка бросилась к выходу. В туалете, подавив приступ дурноты, Маша прижалась лбом к холодной стене, мечтая об одном - исчезнуть, но в дверь постучали тихонько, и вошла девушка, сидевшая за столом рядом с нею. "Ну что, как ты?" - девушка спрашивала заботливо, и легкий акцент, пробивавшийся в голосе, прибавлял нежности и заботы. Маша попыталась ответить, но дурнота подступила снова, и, махнув рукой, она склонилась над раковиной.
Когда Маша наконец вышла, девушка стояла снаружи, терпеливо дожидаясь, и, справившись с собой, Маша извинилась и поблагодарила за заботу. Вернувшись к столу, она села, стараясь не глядеть на темное блюдо. Разговора не было. Все смотрели с вежливым недоумением, словно дожидались объяснений. "Простите, я не знаю, очень вкусно - для меня непривычно, - Маша оправдывалась тихо. - Я устала, тяжелый день", - она говорила, боясь заплакать. Взгляды, устремленные на нее, были странными. В них соединялись жалость и непреклонность, словно в их глазах Маша была животным особой породы: сама по себе она казалась жалкой, но весь ее род вызывал опасливую неприязнь. Что-то, перебивавшее стыд, поднялось в Машиной душе, и, отрекаясь от рода, будившего их отвращение, она произнесла через силу: "Я - не русская. Мой отец - еврей". Их веки опустились. Девушка, сидевшая рядом, оглянулась, ища официанта. Он подошел и склонил голову, дожидаясь распоряжений. Она произнесла непонятно и коротко, и, кивнув, официант ловко подхватил темное блюдо. Оно исчезло бесследно, и хозяева заговорили как ни в чем не бывало.
Вечер закончился мирно. Никто и словом не обмолвился о случившемся, никто из них ни за что не заговорил бы, не начни Маша сама. Разговор случился в общежитии, похожем на гостиницу, куда она добралась к полуночи. Провожатым был Йонас, темноволосый высокий парень, не похожий на прибалта. Он говорил почти без акцента. По дороге болтали о разном: преподавателях, экзаменах, конференциях, и, дойдя до дверей общежития, Маша обернулась попрощаться. Он смотрел на нее выжидающе, как будто напрашивался на приглашение, и, неожиданно разозлившись, Маша усмехнулась нехорошо: "Знаешь, - она сказала, глядя в глаза, - если бы я кого-нибудь ненавидела, я не стала бы набиваться в гости". Она сказала и увидела: он понял не слова, а усмешку. Эта усмешка, которой Маша научилась у брата, была гримасой униженного. "Эт-то неправда, - он ответил, и буква т, отдавшаяся ломким эхом, вернула себе прибалтийский выговор. - Т-тебя никто не ненавидит". - "Это хорошо, - Маша сказала, прислушиваясь к отлетающему эху. - Тогда мы поднимемся наверх, и ты объяснишь мне, почему вы сговорились и сделали так, что мы не понимали ни слова? Если ты не сделаешь этого, я уеду завтра, и не я одна - первым же поездом". Она сказала со злости, из гордости, с разбегу, но Йонас испугался. "Да", - он согласился покорно и двинулся следом за ней.
На этаже, куда они поднялись, стоял низкий столик, обрамленный креслами. Йонас сел и сложил руки. Он сидел, опустив голову, не умея начать, словно дожидался наводящих вопросов. Взгляд его изменился: стал тяжелым. "Ну? - Маша спросила, давая волю злости, накопившейся за долгий день. "Остальные гости приедут завтра, из Риги и Таллина. Сегодня ленинградцев не ожидали. Мы предполагали, на пленарном будут только наши, приготовили на литовском, потом, когда оказалось, вы приезжаете, было поздно менять". - "Правильно. Вот так ты и объяснишь, когда тебя вызовут". Руки Йонаса вздрогнули. Его испуг она поняла правильно: сидя перед нею, он репетировал объяснение.
"Это я понимаю, я не понимаю другого: вот я, сидящая перед тобой, неужели я - твой враг?" - "Не знаю", - он ответил нехотя, но твердость, вставшая в голосе, выдавала правду. "Хорошо. Пусть - враг, но перед лицом врага следует говорить открыто". Их разговор, начавшийся с его испуга, был странной игрой. В девушке, сидевшей напротив, глаза Йонаса различали врага, но что-то, сидевшее глубже, не соглашалось с ними. Оно стояло насмерть, но смерть была ненастоящей, потому что, поверив усмешке, Йонас знал наверное: не выдаст. Игру они начали сами, придумав стратегическую хитрость: пригласить на пленарное одних ленинградцев, потому что только с ленинградцами их сговор мог стать игрой. Эти игры были особого свойства: в них все было по правде, кроме предательства, а потому главным становился выбор врага. От точности выбора зависело многое: именно в этой точке таилась угроза перерождения игры в жизнь. Теперь, когда ленинградская девочка принимала условия, Йонас больше не боялся: он жаждал говорить правду.
Правда, которую слушала Маша, была соблазнительной и страшной. Тихим и твердым голосом он рассказывал о послевоенном времени, когда их семью выслали за Урал, где он и родился. Перечисляя непривычные имена, он подробно рассказывал о судьбе родных, о тех, кто умер в далекой ссылке, о бабушке, не смевшей плакать о родине, украдкой учившей его говорить по-немецки, но писать на родном языке. Он говорил и говорил, боясь забыть о самых дальних, и, вслушиваясь в имена, Маша удивлялась его памяти, державшей всю многочисленную родню. Их жизни, загубленные оккупантами, были записаны в памяти, как в книге, и каждая страница сочилась болью. Перед Машей, словно свидетель обвинения, он листал мелко исписанные страницы, и, вглядываясь в буквы, чернившие строчки, Маша видела, что все эти буквы - другие. Ею владело непонятное чувство, словно она, приглашенная из Ленинграда, снова сидела на конференции, где все как один говорили не по-русски, но, в отличие от настоящего пленарного заседания, она понимала дословно, как будто его бабушка, умершая вдали от дома, научила ее говорить на своем родном языке. "Моя семья - не исключение. Русские погубили многих, куда ни глянь, кого ни спроси".
Будь это трибунал, перед которым он поставил ее обвиняемой, Маша нашла бы, что сказать. Она сказала бы, что ее вина - мнимость. Все, случившееся с их семьями, произошло до ее рождения, а значит, она не может отвечать за дело рук отцов. Кроме того, ее собственный отец - еврей, а значит, поезда, стоявшие под парами, были приготовлены и для ее семьи. Она сказала бы о том, что, не умри Сталин, она родилась бы по другую сторону материка, если бы вообще родилась, и уж, во всяком случае, никогда не стала бы ленинградкой. Она могла бы сказать, ее город - особый, в нем все смешалось и сгорело: есть такая национальность - ленинградцы. Так она ответила бы судьям, и ни один трибунал на свете не счел бы ее доводы ничтожными. Из-за свидетельской кафедры она вышла бы свободной и оправданной, и Йонас, сидевший в первом ряду, должен был отступить.
Он замолчал, дожидаясь ответа, потому что в игре, которую они оба приняли, полагалось отвечать. "Я отвечу тебе", - Маша начала непреклонно, перебирая доводы. Они были сильными и правильными - все вместе и каждый по отдельности. "Во-первых..." - она коснулась лба, и в это же мгновение в ней поднялся непреклонный голос, вложенный в душу над колыбелью. Этот голос, вступавший помимо воли, пел о том, что его рассказ - правда, и эта правда сильнее ее собственной - если придется выбирать. "Во-первых, - она начала снова, усмехаясь сухими губами, - То, что ты говоришь, - правда. Мой отец еврей, но мать - русская, а значит, я тоже перед тобой виновата".
Йонас сник. Затеянная игра выходила странной. В ней не было главного, на чем держатся такие игры. Тень разочарования скользнула по его лицу. После долгого рассказа он чувствовал усталость и пустоту. Тени предков, ходившие над его головою, отлетали в далекие пределы, оставляя его в одиночестве. Он никого не забыл, защитил их всех, как мог, никто не потребовал бы большего. Теперь, сидя на гостиничном диване, он глядел на девушку, сидевшую напротив, которая признавала свою вину. Даже себе Йонас не желал признаться в том, что ожидал другого, и, борясь с подступающим разочарованием, уцепился за ее усмешку, не похожую на покорность. Свою вину она признавала с усмешкой, так он сказал себе, и, спасая радость обличения, с которой не хотел расставаться, Йонас протянул руку и провел указательным пальцем по ее верхней губе. Усмешка, изобличавшая непокорность, пряталась там.