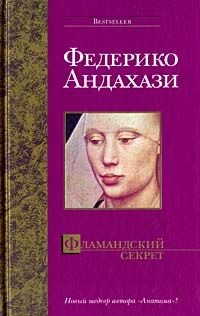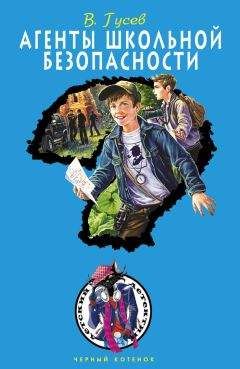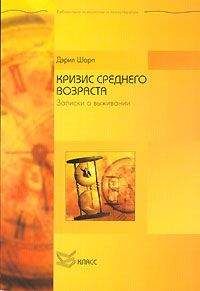Федерико Андахази - Книга запретных наслаждений
Гутенберг побледнел и сглотнул слюну; он не мог произнести ни слова, по лицу его блуждала идиотская улыбка.
И тогда Андреас удвоил ставку:
— Я не хотел бы вмешиваться не в свое дело, но для меня очевидно, что бургомистру не нужно столько бумаги, сколько вы заказываете каждую неделю.
Хайлманн заметил, что последние слова привели его приятеля в ужас, и, дабы успокоить собеседника, сразу же сменил тон; речь его стала тихой и доверительной:
— Вообще-то, казначей успел со мной поделиться своими сомнениями, но я, конечно, постарался его убедить, что все в порядке.
После этих слов Гутенберг понял, что Андреас готов сохранить свои подозрения в тайне — в обмен на участие в деле. Мысль о том, чтобы вовлечь в свое предприятие единственного во всем Страсбурге изготовителя бумаги, тотчас представилась Гутенбергу указанием свыше. Все складывалось как нельзя лучше. И тем не менее он не собирался раскрывать Андреасу свою тайну — Гутенберг не доверял даже собственной тени. Молчаливая борьба, происходившая в душе гравера из Майнца, не укрылась от Хайлманна. Он понимал, что сейчас ему лучше помолчать. Фабрикант провел рукой по стоике бумажных листов, словно поглаживая собаку; он давал Гутенбергу понять, кто он таков: полновластный хозяин бумаги. Это простое действие сработало незамедлительно: Иоганн глубоко вздохнул и заговорил.
— Это святые реликвии, — шепнул он на ухо приятелю. — Самые потрясающие реликвии, вам такие и не вообразить.
Лицо Андреаса просияло. Ему было известно, что в последнее время многие мошенники весьма топорно подделывают гвозди распятия, крайнюю плоть Христову, священные саваны, плащаницы, терновые венцы, щенки Святого Креста и даже целые кресты, но ему было известно также, что из рук Гутенберга всегда выходят вещи исключительные.
— Реликвии? Очень интересно. А можно полюбопытствовать, какие именно реликвии? — поддержал разговор Андреас.
Гутенберг ответил с убежденностью, идущей от самого сердца:
— Подлинные реликвии.
И тогда Хайлманн звучно расхохотался.
— Вы собираетесь подделывать подлинные реликвии? — изумился фабрикант, давясь от смеха.
— Божье Слово подделать невозможно — его можно только разносить по свету, как ветер разносит добрые семена. Семя, которое слетит с моих рук, принесет плоды. А фальшивое семя никогда не принесет плодов — ни подлинных, ни фальшивых. И больше я вам ничего не скажу.
Гутенберг говорил с такой загадочной убежденностью, что у Хайлманна пропала всякая охота смеяться. Краткая речь Иоганна прозвучала столь искренне, что Андреас понял: что бы ни слетело с этих рук, будет грандиозно. И спрашивать больше ни о чем не следовало.
— Приходите завтра на фабрику, я выдам вам достаточное количество бумаги. А если через неделю я смогу лицезреть ваш загадочный плод, вы получите новую партию.
— Через месяц, — поправил Гутенберг.
Фабрикант тряхнул головой, оценил это обещание и согласился.
— Мы компаньоны, — объявил он, протягивая руку.
— Мы компаньоны, — согласился Гутенберг, подкрепив свои слова рукопожатием.
Вот так в подвальном складе управы бургомистра Андреас Хайлманн и Иоганн Гутенберг заключили тайный союз.
5
Весь город был поражен известием о смерти Ханны. Кошмарная последовательность женских смертей затмила даже суд над изготовителями фальшивок. Впрочем, жители Майнца, за отсутствием виновного и даже подозреваемого, чувствовали себя совершенно беззащитными. И хотя были среди них и такие, кто утверждал, что убийца проституток оказывает неоценимую услугу всему городу и освобождает от неприятной работы власть имущих, мало у кого руки были настолько чисты, чтобы бросить первый камень: почти каждый мужчина в Майнце хоть раз да заходил к шлюхам. В этом городе харчевню от бардака отделял в буквальном смысле один шаг. Женщины боялись, что их или, куда хуже, их дочерей перепутают с проститутками, — в конце концов, как отличишь на взгляд женщину достойную от шлюхи? К тому же ярость, с которой Почитательниц убивали и истязали, свидетельствовала о больном рассудке убийцы: такой человек из одного только каприза мог решить расширить круг своих жертв. Самим судьям, ведущим процесс по подделке Библий, иногда начинало казаться, что они попусту тратят время на этих никчемных мошенников, тогда как весь город трепещет перед поистине кошмарными преступлениями. И Зигфрид из Магунции решил оседлать чувство всеобщего сострадания к женщинам, чтобы подбросить, в огонь новых дров и сформулировать еще одно обвинение в адрес Гутенберга:
— Господа судьи! Подсудимый, не удовольствовавшись кражей и мошенничеством в достижении своих отвратительных целей, без колебаний воспользовался еще и беззащитной женщиной.
Сидя перед судейским трибуналом, Гутенберг вспоминал тот день, когда познакомился с единственной женщиной, полюбившей его без границ и без условий.
Финансовые дела Гутенберга шли из рук вон плохо, он убедился, что все его попытки продвинуть свое изобретение разбиваются о несокрушимую стену нищеты. Он уже разрешил проблему с чернилами, разработал систему подвижных металлических литер, получил в свое распоряжение самую лучшую рукопись для образца и построил мастерскую вдалеке от любопытных взглядов, однако Гутенберг так и не сумел повторить почерк Зигфрида из Магунции, а для этого ему требовалось время и, главное, деньги. Иоганн совершенно изнемог, все его достижения оборачивались новыми заботами, обещаниями и долгами.
Во-первых, Гутенберг торопился вернуть Библию на прежнее место, в библиотеку, пока ее не хватились. Во-вторых, бумага, которую предоставлял ему Хайлманн, была как аванс вслепую в счет проекта, о котором фабрикант ничего не знал. Каждый листок, который тратил Гутенберг, уходил в дебет, пополняя собою растущий пассив предприятия.
Судьба распорядилась так, что именно в это время Иоганн познакомился с Эннелин фон дер Изерн Тюре, девушкой из богатой страсбургской семьи. Если бы не ее аристократическое происхождение, любой сказал бы, что ей суждено окончить свои дни в монастыре. Эннелин с изрядным преимуществом опережала всех остальных претенденток в борьбе за титул самой некрасивой женщины в городе. Казалось невероятным, что эта девушка может быть любима кем-нибудь, помимо Христа, и выйдет замуж за кого-нибудь, помимо Господа.
Уродство ее служило поводом для самых безжалостных комментариев. Во время аристократических приемов, когда Эннелин одиноко сидела в самом дальнем углу, до нее доносилось приглушенное хихиканье и едкие шепотки. Однажды она услышала:
— А по-моему, несправедливо утверждать, что Эннелин — женщина некрасивая.
— Она что, кажется вам красивой?
— Нет, она мне не кажется женщиной.
Как бы жестоко ни звучало это утверждение, доля истины в нем была. Эннелин обладала каким-то коровьим выражением лица и чертами, которые — хотя и не вписывались ни в какие каноны красоты — придавали ее лицу особую нежность, невинность и добродушие. И внешность ее не лгала: Эннелин была действительно добра. Она кротко слушала, как гости, прикрывая рот ладошками, шушукаются:
— Отцу следовало бы поступить с ней так, как подсказывает ее фамилия: запереть за Isern Ture, [49]а ключ потом выбросить в воду.
Эннелин опускала голову, и ее большие черные глаза, окруженные жесткими, как щетинки, ресницами — ну точно как у коров, — наливались слезами под закрытыми веками. Тело ее, казалось, на самом деле приноровилось к фамилии: эта девушка анфас была похожа на дверь: никаких женских изгибов на талии, на бедрах, на груди. Однако сердце Эннелин и чувства были сильны и прочны, как железо. Она научилась противостоять жестокости людей, умеющих судить только по внешности. Те, кто лучше знал эту девушку, отвечали нежностью на ее нежность — безусловную и бескорыстную.
Эннелин была светом очей для своего отца. В детстве она получала столько любви и щедрости, что позже, превратившись во взрослую девушку, ей было трудно понять, отчего ее внешность вызывает столько злобы и даже ненависти. Но все эти унижения так и не зародили в Эннелин ядовитой злости. Ей были неведомы ни гнев, ни ярость, и, хотя ее нередко посещала печаль, эта девушка никогда не выказывала раздражения. Она обладала веселым характером, неиссякаемой улыбкой и умением наслаждаться жизнью. В отличие от большинства аристократических отпрысков Эннелин не чувствовала, что ее благосостояние и обеспеченная жизнь суть блага, справедливо ниспосланные ей Божьим провидением. Девушка сострадала участи бедняков, и ее щедрые подаяния объяснялись вовсе не соблюдением приличий и не боязнью Божьего гнева. Шли годы, Эннелин взрослела и наблюдала за тем, как ее сестры, кузины, подруги и даже племянницы — совсем еще девочки — выходят замуж и заключают брачные договоры, составленные из бессчетного множества статей, условий, поправок, обещаний и — как же без этого — наказаний в случае неисполнения. Редким счастливицам удавалось насладиться любовью к своим супругам. Эннелин радовалась всякий раз, когда выходила замуж еще одна подружка или родственница. Она никогда никому не завидовала и, хотя в тайная тайных своей души и желала познать любовь мужчины, все-таки даже не надеялась, что такое может выпасть на ее долю.