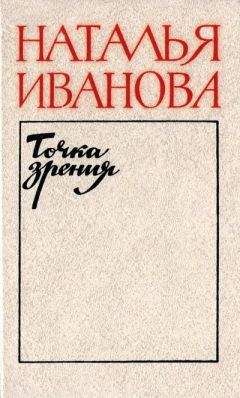СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН - После бури. Книга первая
— Да зачем же это?! Зачем еще и еще ужас?
— Только через ужас избавимся мы от исказительства! Нельзя бояться страха и уходить от него, это и есть самая низменная страсть и трусость. Страх надобно разжигать в себе, а тогда и себя можно сделать человеком! Другой причины к равенству и к свободе нет! Страх — он всех между собою равняет, все должны быть перед ним в рабстве одинаковом-с, а тогда и ждать никто и никаких свобод не будет более. И тогда-то явятся они, свободы, как бы сами по себе. То есть все будут свободны во всем, кроме страха. Во всем, что страхом не будет пресекаемо! Должен быть человек в чем-то рабом, в чем-то одном, а тогда во всем прочем он будет свободен!
— Нет, вы сумасшедший! Неужели все еще мало кругом вас ужаса? И не из-за него ли происходят все несправедливости?! Не из-за того ли, что не хватает у человека смелости? Что боится он за свою шкуру, и за свою жизнь, и даже за свои мысли? И мыслишки? Не из за него ли и все наши страдания?
— Из-за него! Конечно, из-за него! Покуда он не настоящий, а поддельный и ничтожный, то есть мало его! И совершенно верно: вся эта дрянь, страданиями называемая-с, тоже из-за малости истинного страха происходит! Происходит, да еще и дикими надеждами человека переполняет, потому дикими и дикарскими, что неисполнимы те надежды во веки веков! Нет-нет, не говорите, мало у человека страха и содрогания! И у меня по сю пору тоже мало его. Ищу, ищу, а все недостаток. Уже отчаялся искать. По каплям его собираю, на край света за ним готов-с идти, а он мал, все еще до величия ему далеко-с... Вы не ищете его?
— Ни в коем случае!
— Вот и устраиваете в душе своей балаган. Не так сказал? Пусть будет иначе сказано, пусть будет сказано — театр. Пусть — театральное представление!
— Не понимаю!
— Не хотите понять! Боитесь понять. Чтобы принять страх, смело надобно-с, очень смело поступать. Но вы другое себе назначили — играть в театр и совсем не того человека изображать, который вы есть, и даже не того, которого вам изобразить хотелось бы.
— Какого же?
— Так, какого-нибудь. Незнакомца. Однофамильца.
— Вы подлинно сумасшедший! — крикнул Корнилов вне себя.
Крикнул и понял, что при слове «однофамилец» ему не то что кричать, а глазом нельзя моргнуть. Но уже крикнуто было. Был уже этот возглас.
Мастер усмехнулся. Ничего нельзя было угадать за этой усмешкой. Ничего дальнейшего.
Мастер молчал.
Ничего нельзя было угадать за его молчанием.
Мастер продолжил свой разговор. Ничего нельзя было угадать за этим продолжением.
— А вот, уважаемый-с Петр Николаевич, как перед богом: мне жизнь свою к крайнему содроганию необходимо страхом и ужасом привести! Чтобы она на колени пала бы-с и взмолилась: «Хватит-хватит ужаса! Не могу больше его принять! Падать перед ним! Раз и навсегда буду перед ним на коленях существовать! Раз и навсегда клянусь в страхе жить! И только в нем! Молюсь ему! За бога почитаю его! За величие!» Вот как мне надо, чтобы было, но все еще этого нет и нет... И нет-с. И будет ли когда?
И нужно было верить этим словам — не выдуманы они для нынешнего разговора, нельзя было это сразу же и только для одного случая выдумать. Нужно было верить... Но Корнилов верил и не верил, его все еще не только слова этого человека занимали, а облик его. Одутловатость и пятна на лице... Большие влажные губы... Упорно-внимательные, а то вдруг рассеянные серые глазки.
Однофамилец — было произнесено мастером.
«Вы сумасшедший!» — ответил Корнилов — и каким голосом ответил?! Корнилов припоминал свои собственными голос.
Мастер был теперь задумчив. И задумчивость Корнилов подвергал сомнению: «Может, не задумчивость, а наблюдательность? Может, не наблюдательность, а проницательность? Может... »
Мастер сказал:
— Окажите человеку душевное вспомоществование?! — И протянул в сторону Корнилова руку жестом просящим, скорбным, — А? Ради господа бога?
— В чем? Какое вспомоществование требуется вам? О чем вы?
— А послушайте меня в сочинении! В слове писаном, а не устным. Ах, да какое там сочинение, нет, ничуть не бывало, это другое. Это Записи, уже многие годы мною ведомые изо дня в день. Записи того, что главное есть в мире. Я их вам-с почитаю, вы послушайте. И пострашитесь, сколько есть у вас возможности-с.
— Записи?
— Самые разные они там у меня записаны. Убийства. Насилия. Подлости всяческие. Сжитие со света одного человека другим. Ну и, Конечно, избиения походя. Вот на базарах которые случаются ежедневно. А то избивают до полусмерти мужья жен своих, родители детей. Обратно тоже случается: дети — родителей. Обманы и надругательства духовные-с.
— И вам нужно, чтобы эту книгу кто-нибудь читал? И слушал?
— Совершенно верно, кто-нибудь! Очень а ком-нибудь нуждаюсь: собственного страха, уже объяснил я вам, нет у меня достаточного, а главное, неизменного, так я, может быть, сперва другого содрогнул бы, а уже через его страх и дрожь телесную и я бы вздрогнул тоже?! Очень-с нуждаюсь и вот прошу Христа ради. Унижаюсь! Себя как можно убедить? Только убедив в тои же мысли другого!
— Книга ваша это нечто нечеловеческое. Мерзость. Низость. Нет ей названия!
— Зачем в таком случае все другие книги существуют? С каким значением? Зачем, ежели они научили человека не принимать страх, научили его не бояться, а вместо страха перед тем, чего истинно бояться нужно, ставить ложь? Исказительство ставить. Игру и театр, где бы надо испугаться до потрясения?!
— Вы верующий? Тогда спрошу вас: а Библия?
— Лепет! Лепет самоубийственный и детский! И простительный лишь потому, что, когда она, то есть Библия, писалась, ужасов мало еще совершилось и накопилось. И не было еще им записи, не было такой книги, которую я веду и записываю. Не было той, без которой ничего не может быть! Ни мысли, ни любви, ни чувства истинного — ничего! Она подлинный крест всечеловеческий, это ведомая мною книга и единственное человеческое спасение! Не поверим ей — нечему уже будет верить! Все другое изверено давно и до последнего. Нету, говорю вам уже который раз, в жизни человеческой другого смысла, как постижение ужаса! Нету оправдания для азбуки, для письма на любом языке! И когда так, записал я уже в ту книгу более двух с половиной тысяч злодеяний всяческих. Когда так, то и послушайте меня в чтении бога ради. Сколько-нибудь-с... Ну, хотя бы в одной тысяче записей послушайте! Хотя бы двести или триста прослушайте их. Сто! Десять хотя бы, прошу бога ради! Неужели труд мой великий, за всех совершаемый, не нужен одному хотя бы человеку? Нет, вы согласитесь, послушайте, после сами станете великим писателем, уверяю вас!
— Да ни за что! — снова и громко воскликнул Корнилов, отчетливо представив себе эту книгу, этот театр, в котором буровой мастер прочитывает ему запись под № 1295, склонившись к ней безобразным своим лицом, придыхая и то с приказчичьей приставкой «с» в конце некоторых слов: «убил-с», «избил-с», «замучал-с», то громко и ясно: «убил», «избил», «замучал».
— Великую книгу, истинную русскую книгу, но ради всего человечества-с должно написать мне! При русской-то столь чувствительной душе да столь бесконечно ужасов, делаемых самим-с себе, это ли не назидание человечеству и не опыт ли ему? Тогда что же другое может быть опытом и назиданием? Это ли не долг мой высказать, когда я понял? Единственный я понял, и, кроме меня, никто-с? Ужас всяческого постиг, не только боли телесной, но и всей жизни, слепо и бесстрашно творимой человеком во имя бессмысленности. И когда я не сотворю ту книгу во всех трех ее ипостасях — ужас насилия, ужас бессилия, ужас блудного слова,— то кто-то должен пойти по следу моему и совершить?! Верю! Ради черного негра африканского и миллионщика из города Чикаго, ради монарха и пролетария, ради господа нашего Иисуса Христа — верю! Должно же быть человечеству спасение, и последняя к тому осталась способность — моя книга. Вы, Корнилов Петр Николаевич, не могли бы?! Не могли бы-с исполнить ту способность?! А?! Она в каждом из нас теплится, та способность и та миссия, но никто не хочет в ней признаться хотя бы самому себе-с, не хочет ту крохотную ниву в себе самом взлелеять, возделать, произвести ее в простор души и сознания своего, а бежит ее, словно бы малая зверюшка от огромного хищника!
Боже мой, в самом-то деле, сколько №№ мог бы внести в эту книгу Корнилов?!
№№, которые при нем были совершены, над ним были совершены, им были совершены, при его содействии совершились!
Замелькали, замелькали №№ в отрывках, успевая в самый краткий миг снова совершиться перед ним от начала и до конца, словно полотно художника, предстал в его воображении вот какой №: полуосвещенная убогая комнатушка, два красноармейских трупа на полу, а третий труп — полковничий... Посреди огромной темной лужи. И запах кровяной, удушающий, парной, услышал он и увидел глубокого изможденного старика в чужих, в офицерских, донельзя истрепанных шароварах и с очками в одной руке, с каким-то пузырьком в другой. «Господи, господи, господи...» — старческий, тоже едва живой, послышался ему голос.