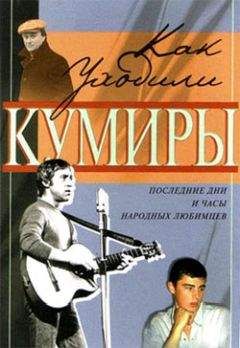Миграции - Макконахи Шарлотта
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
14
ИРЛАНДИЯ, ГОЛУЭЙ.
ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
Начинается как щекотка, заползает все глубже под кожу, превращается в зуд, царапанье, удушье; в конце я могу лишь выкашливать перышко за перышком, порождения моего собственного тела, я задыхаюсь, воздуха нет совсем…
— Фрэнни!
Что-то лежит сверху, придавливает меня к земле, — господи, это чье-то тело…
Муж пригвоздил меня к постели. Я дергаюсь, мне невыносимы неожиданная скованность рук и ног, беспомощность.
Найл тут же поднимается, вскидывает руки.
— Тихо. Все хорошо.
— Ты что делаешь?
— Фрэнни… я проснулся, потому что ты пыталась меня задушить.
Я гляжу на него, пытаясь выровнять дыхание.
— Нет… Я задыхалась…
Глаза его широко раскрыты.
— Ты пыталась меня задушить.
Внутри крючится ужас. Я никогда еще не спала рядом с другим человеком, не просыпалась рядом с чужим телом. Вчера вечером мы поженились. Сегодня утром я попыталась его убить.
Я копошусь, запутавшись в простыне, потом бегу в туалет и успеваю — рвет меня уже там. Найл идет следом, пытается отвести в сторону мои волосы, я отбрасываю его руку: не хочу, чтобы меня трогали, мне слишком стыдно. Закончив, прополаскиваю рот. Не в силах поднять глаза.
— Прости меня. Я — лунатик. Хожу во сне. Иногда еще всякое бывает. Нужно было предупредить.
Он пытается осмыслить.
— Ясно. Хорошо. Блин. — Короткий смешок. — Мне вроде полегчало.
— Полегчало?
— Я уж подумал — ты всерьез пожалела о вчерашнем.
Голос его звучит настолько сухо, что у меня и самой с губ готов сорваться смех.
— Это я во сне.
— Ну и кошмар тебе, видимо, снился.
— Я его даже и не помню.
— Ты сказала, что задыхалась.
Царапанье во рту и в легких — я содрогаюсь, по мере сил блокирую воспоминание.
— Ты часто видишь во сне, что тебя душат?
— Нет. — Солгав, я прохожу мимо него на кухню. Все содержимое желудка улетело в фановую трубу, я дико голодна. Квартира у него без изысков и слишком современная, на мой вкус, но мы вчера уже договорились, что поищем другую, которая подойдет нам обоим.
Я шарю по холодильнику, но там только суперполезные злаки и зерна, а мне нужно что-нибудь жирное, что бы впитало выпитый нами накануне алкоголь.
— Пойдем съедим что-нибудь жареное?
— То есть для тебя это действительно так, ничего особенного? — интересуется он. — Меня теперь каждую ночь будут душить? А чего мне еще ждать? Ты будешь сбегать из дома? Это опасно?
Впервые с момента пробуждения мне удается заставить себя взглянуть ему в лицо. И вот опять, он пригвоздил меня к постели, каждая мышца у него сильнее, чем у меня, в глазах изумление и решимость — неужели и я выглядела также, когда он проснулся и увидел то же самое?
— Этого больше не повторится, — говорю я. — Обещаю тебе. Есть лекарство, которое я могу принять.
Еще одна ложь. Никакие лекарства не помогают. Но я не хочу, чтобы он боялся — меня или за меня. Не хочу, чтобы он смотрел вот так, чувствовал то, что чувствовала я, когда проснулась, раздавленная его руками.
Еще три ночи проходят так же — вернее, душить я его не душу, но мечусь по постели, расхаживаю по квартире, громлю кухонные шкафы. Найл страшно боится, что я покалечусь. Я не признаюсь ему в том, что сейчас все это происходит чаще обычного, потому что я никогда еще настолько не отрывалась от реальности: я в чужой квартире с незнакомцем. Вместо этого прошу помочь мне убрать из его спальни все острые предметы и лишнюю мебель, прошу врезать замок изнутри — пусть хранит ключ там, где я его не найду.
Я ему не говорю, что все это сильно действует мне на нервы.
Я ему не говорю, что, когда я сегодня вечером пыталась заснуть, стены смыкались, потолок падал, мне хотелось вышибить дверь или высадить окно и свалить на хрен из этой квартиры, из этого города и даже из этой проклятой страны. Ничего этого я ему не рассказываю, просто привязываю запястья к спинке кровати, потому что не хочу задушить своего несчастного мужа во сне.
— Что сегодня будем делать?
Найл освобождает мои запястья, чтобы я могла повернуться к нему лицом.
— Тебе разве не нужно работать?
— А смысл? — говорит он. — Ничего от этого не меняется.
Мне странно это от него слышать, хотя и непонятно почему: в конце концов, меланхолия — обратная сторона всякой страсти. Вместо того чтобы напомнить: в том, чтобы учить других, всегда есть смысл, я его целую. Мы предаемся любви в утреннем свете, но меня сковывает воспоминание о перьях, запястья саднит, я не ощущаю никакой к нему близости, я в постели с человеком, который понятия не имеет, какое чудовище таится у меня внутри.
После он снова спрашивает, что мы будем делать.
— Все, что захочешь, — отвечаю я.
— Правда? У тебя никаких планов?
— Я сегодня выходная.
— Знаю, ну, а планы помимо работы?
Я смотрю на него, морщу лоб.
Он смеется.
— Я вчера слышал по телефону, как ты договаривалась съездить к кому-то в Дулин.
— Подслушивал? Негодник!
— Квартирка-то маленькая.
Я корчу рожу.
— Ты поведешь машину или я? — спрашивает он.
— А если я хочу съездить одна?
— Значит, поезжай одна.
Я оглядываю его, ища подвох. Похоже, он говорит искренне, поэтому я с деланным безразличием пожимаю плечами.
— Хочешь — поехали, но боюсь, тебе будет скучно.
Он направляется в душ.
— Скучно бывает только скучным.
Почти вся дорога до Дулина проходит без музыки и разговоров, только долгие перегоны молчания, попеременно то уютного, то тягостного. В машине духота, я опустила стекла, хотя снаружи очень холодно.
Чем ближе мы к цели, тем тревожнее у меня на душе. Я уже убедила себя: все это зря, надо повернуть обратно, дверь эта ведет к чему-то дурному, поэтому мама меня туда никогда не пускала.
— Расскажи, откуда у тебя такой выговор, — роняет Найл в пустоту, видимо почувствовав мою тревогу.
— Ачто с ним не так? — спрашиваю я, не отводя глаз от морского простора справа.
— Все никак не разберу, из каких он краев, — сознается он. — Иногда думаю: английский, иногда похоже на американский. А потом — чисто ирландский.
— Ты на мне женился, даже не выяснив, откуда я родом.
— Верно, — соглашается он. А потом: — А ты сама знаешь?
— Откуда я родом? — Я поворачиваюсь к нему, открываю рот, чтобы ответить, потом осекаюсь: — Я… нет, пожалуй.
— Поэтому мы и едем? — спрашивает Найл, кивая на дорогу, протянувшуюся впереди.
Я киваю.
— Ну, тогда ладно. Порядок.
Домик притулился на склоне холма, с подъездной дорожки видно мягкий зеленый уклон, уходящий к морю. Пространство между нами и морем исчерчено каменистыми бугристыми выпасами, тут и там щиплют траву козы.
Стучит Найл, потому что сама я не в состоянии. Нам открывает тысячелетний старик с обветренным, загрубелым лицом. Щурится, вглядываясь.
— Добрый день, сэр, — приветствует его Найл. — А можно нам Джона Торпи?
— Я он самый и есть. Вот только если вы по поводу земли, так старины Джеки нет дома.
Найл улыбается:
— Не по поводу земли.
Я прочищаю горло: дальше Найл не сможет вести разговор, он понятия не имеет, зачем я сюда приехала.
— Я хотела бы спросить, не знали ли вы такую Ирис Стоун.
Джон таращится на меня и щурится так, что глаза превращаются в щелочки.
— Это шутка, что ли?
— Нет.
— А, так вы, выходит, ее дочурка. Слыхал, что есть где-то такая. Надо же, уже совсем взрослая. — Он с глубоким вздохом приглашает нас внутрь.
В груди все напряжено, я не знаю, чего ждать, но чувствую, что близко, как никогда, подобралась к правде.
Обстановка в доме простая, тут и там приметы женской заботы, остатки иной жизни. Старые кружевные занавески, кончики перепачкались. На книжной полке когда-то веселенькие фарфоровые фигурки, почти все побитые. На всех поверхностях толстый слой пыли, а окна такие грязные, что в них проникают лишь отдельные полосы света. Я разглядываю это воплощенное одиночество, и на меня накатывает печаль. На каминной полке единственная фотография. Джон, но много моложе, с копной огненно-рыжих волос, с ним рядом темноволосая женщина, видимо его жена Майра, а между ними — девочка с пышными чернильно-черными кудряшками, прямо как у ее мамы. Рассмотреть я не успеваю — Джон жестом предлагает мне сесть.