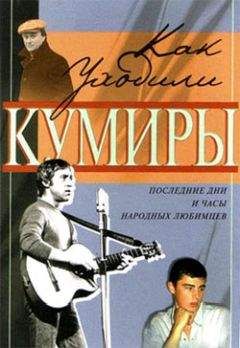Миграции - Макконахи Шарлотта
Я улыбаюсь, потому что не могу придумать большего наслаждения, чем посмотреть огород. Ферд решает забраться мне на закорки, я вскидываю ее туда и выхожу. Ее ручонки нежно сжимают мне горло.
— Мы уже сколько месяцев урожай снимаем, — поясняет Сэм, ведя меня к склону холма, на котором вскопан большой роскошный огород. — Все лето.
— И какие вы овощи выращиваете? — спрашиваю я, пробираясь по извилистой каменистой тропке между грядками.
— Тут рос лук, — поясняет Блю, указывая рукой. — Там, подальше, картофель, но его мы уже весь выкопали. А еще свекла, морковь, цветная капуста… как там ее, Колл?
— Кудрявая капуста, — шепотом произносит Колл, проводя пальцами по блестящим багровосиним листьям.
— У Колл она любимая, — замечает Блю. — Видите, она на розы похожа?
— У нас тут еще много чего, — говорит Сэм. — Вон там — всякие пряности. Мята и вообще.
— Фу, мята, — заявляет Брин, с отвращением зажимая нос.
— А вы умеете выращивать овощи? — спрашивает меня Хэлли.
— Немного умею. Но хуже вас.
— Как же можно жить независимо, если толком не умеешь ничего выращивать?
Я давлю смешок:
— Ты права, надо учиться. Только это непросто, если живешь на судне.
— Да, верно, — соглашается она. — Может, когда вернетесь?
Я киваю.
— Мы едим только то, что сами выращиваем, и яйца от наших куриц, и то, что ловим в море.
— Вот только рыба уже сто лет не ловится, вздыхает Брин.
— А другое мясо? — спрашиваю я. — Вы скот выращиваете?
— Мяса не едим, — говорит Хэлли. Слегка выпячивает грудь, вид у нее воистину свирепый. — Папа говорит, оно нам ни к чему.
Вот оно как. А на судне Самуэль точно ел мясо — неудивительно, что он бросил на меня такой виноватый взгляд, когда я сказала, что вегетарианка.
— Понимаю и поддерживаю, — говорю я, и колючий взгляд Хэлли делается менее подозрительным.
— Мы все сетки сняли, видите? — Она указывает в конец огорода, где стоит металлический каркас, обмотанный сетью. — Эй, вылазьте оттуда, — добавляет она, обращаясь к Блю и Брин: они забрались в грязь и перемазались.
— А почему? — спрашиваю я у Хэлли.
Она пожимает плечами:
— Птицы в последнее время наши посадки не трогают.
— Потому что птиц не стало, — как нечто само собой разумеющееся, произносит Блю.
Я сглатываю:
— Очень грустно.
Хэлли пожимает плечами:
— Ну, наверное.
Зато для овощей хорошо! — бодро сообщает из-за моего плеча Ферд.
Потом мы некоторое время проводим в курятнике — длинном лабиринте, заставленном деревянными домиками, где птицы спят; тут же — небольшая лужайка, где они могут копаться. Кур двадцать три штуки, они так привыкли к людям, что позволяют себя подержать и погладить. Крапчатые перышки шелковисты на ощупь, тихое кудахтанье звучит почти по-матерински; мне тут очень нравится.
Близятся сумерки, мы спускаемся по холму к длинной полоске песчаного пляжа. Большинство девочек убегают вперед, Ферд так и сидит у меня на закорках. Идти все тяжелее, но ничто не заставит меня с ней расстаться.
Две девочки бегут в конюшню за своими огромными вороными лошадьми, приводят их на берег. Машут мне, вскакивают на голые конские спины, поднимают лошадей в галоп вдоль берега. Гремят могучие копыта, песок брызжет во все стороны; девочки кажутся крошечными, незначительными на спинах своих скакунов, но органично сливаются с ними воедино.
Ферд сползает на землю, чтобы поиграть с сестрами на песке, я же сажусь на дюну и смотрю, как две всадницы скачут галопом взад-вперед по пляжу. Золотистое закатное солнце окрашивает небо розовым, океан — свинцовым. Я погружаю ладони и ступни в песок, ощущая на коже шершавые песчинки, умоляю себя пожить этой минутой и все же уношусь за миллион миль. Когда-то я бы жизнь отдала за сладость такого вот вечера, проглотила бы его без остатка, разогрела бы им свою кровь, а теперь все это — ничто. Я от всего отчуждена, здесь, как и повсюду, все та же смерть.
Беззвучно подходит Эннис, садится рядом со мной. Он принес мне бокал вина, себе — пиво. Меня удивляет его появление, ведь раньше он так старательно меня избегал.
— Ничего себе девицы, да? — говорит он, провожая их глазами.
Я киваю.
— А твои дети какие?
Ответа я не жду, однако он произносит:
— Не знаю. Не знаю я их больше.
— А зовут их как?
— Оуэн и Хейзел.
Голос звучит сдавленно, и больше вопросов про детей я не задаю.
Любопытство мое цепляется за другое.
— А что это за великая тайна, которую мне все отказываются раскрывать, о том, как Аник стал твоим первым помощником?
— Никакая не тайна, — говорит Эннис. — Просто не им рассказывать эту историю. До «Сагани» мы с ним ходили на одном судне. Попали в шторм, судно затонуло, погибли все, кроме нас с Аником, а мы выжили, потому что держались за обломок мачты и друг за друга, прождали в воде трое суток, потом нас подобрали. Больше мы в рейсы поодиночке не ходим, вот и все, и вся история.
Я молчу. Я ждала совсем другого, и я холодею, пытаясь вообразить себе, каково это — столько времени провести в воде, понимаю, что такое испытание способно повязать навеки.
— Почему ты со мной сейчас заговорил? — спрашиваю я в конце концов.
Эннис бросает на меня взгляд:
— Жалко мне тебя стало.
Я закатываю глаза.
Лошади подлетают ближе, целый шторм звуков. За ними тянутся два хвоста рыжих волос, перепутанных с черными гривами.
— Рыба вернется, — отрывисто произносит Эннис.
— Не вернется. Пока живы люди.
— Всегда были циклы…
— Речь о массовом вымирании, Эннис. Она не вернется.
Лицо его дергается, он не согласен. Мне это удивительно.
— Зачем ты так с собой? — спрашиваю я его. — Как будто в наказание. Зачем?
— Потому что нет ничего другого. У меня ничего не осталось. Есть вот это, и есть мои дети, но они никогда не будут моими, если я отступлюсь, если не стану достойным человеком.
— Поправь меня, если я ошибаюсь, но разве опеку над детьми нельзя получить без денег?
— Безработным и безденежным я их никогда не верну.
— Так возвращайся домой, работай таксистом, уборщиком, барменом — кем угодно. Какой же ты отец, если ты не там.
Он качает головой. Вряд ли он меня слышит — всяко не по-настоящему. Я разглядываю его, и сквозь поры внутрь медленно проникает нечто. Узнавание.
Мы с Эннисом одинаковые.
Он мне как-то сказал, что я его осуждаю, считаю подлюкой — на самом деле это правда. Но как я могу осуждать его за тягу к саморазрушению, если и сама такая?
— Не могу я, на хрен, это бросить, — сознается Эннис. Отхлебывает пива — видимо, чтобы успокоиться. — Болезнь такая.
Когда-то я теми же словами описала Найлу свою тягу к странствиям, то, почему я его бросаю, раз за разом причиняю ему боль, но сейчас слова Энниса мне кажутся прежде всего отговоркой. В них звучит эгоизм.
Эннис продолжает, выплескивая накопившееся, возможно ища некоего отпущения грехов, вот только не к тому человеку он за этим пришел — не умею я отпускать.
— Мои родные сотни лет занимались рыболовством. Рыбаки, поколение за поколением. Больше ничего не умели. Меня растили с одной мыслью: ты должен добыть Золотой улов, стать первым в долгой цепи одержимых.
Некоторое время он молчит, а потом добавляет тише:
Это единственное, что я делаю хорошо. Должен быть способ стать отцом и хорошим человеком — и остаться собой.
У меня нет ответа. Я так и не придумала, как можно совмещать свободу и ответственность.
Рука Энниса, держащая стакан, дрожит.
— Если понадобится все это бросить, чтобы быть с ними, я брошу, но закончить все нужно как следует. Я должен чего-то… достичь.
— Даже если ради этого приходится подвергать людей опасности.
— Да. — Голос звучит хрипло. — Даже тогда.
Мы молчим, а девочки скачут взад-вперед, взад-вперед. Нас с Эннисом разделяет тяжесть, состоящая из стыда, но под ней зародилось взаимопонимание.