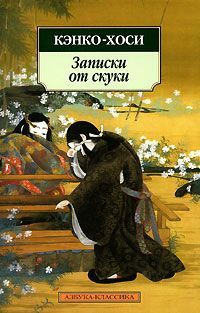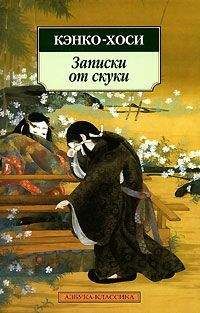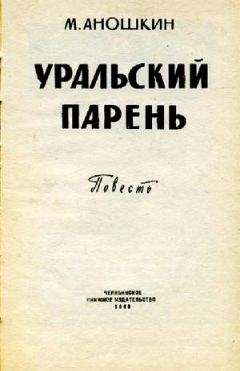Михаил Кононов - Голая пионерка
«Есть — во родимый дом!» — откликнулась Чайка, пожав своими невидимыми плечами. Она уже запеленговала по бурным рокочущим волнам генеральского баса, замаскировавшегося почему-то под солистку самодеятельного хора кондопожского дома культуры Домну Дормидонтовну, чье редкостное искусство народных заплачек и причитаний было известно Мухе по рассказам Ростислава, — засекла Чайка сразу, что волна растекавшейся по небу напраслины на генерала и славословья ей, грешной, выхлестывалась, как из жерла вулкана, из трубы аккуратной высокой избы в конце широкой улицы, над самым берегом озера. Все как описывал Ростислав: дощатые тротуары и безбрежная лужа посереди улицы. И, конечно, герань на подоконниках. Для чего, однако, понадобилось генералу Зукову такое чудачество — переносить свой командный пункт в Кондопогу? И зачем себя ругать? Причем именно из Кондопоги? Или тут какой-то шифр заложен? А может быть, он и раньше отсюда вел ее полеты, а сегодня решил вызвать к себе непосредственно? В чем виновата? Или, может, за Ростислава? Так ничего, вроде, и не было такого уж… А если, наоборот, наградить желает? Ну да, конечно, наградить, ясно же! Ведь сколько уже отслужено ночей — без единственного даже почти нарушения маршрута, в первый раз вот, можно сказать, занесло на север, да сам, к тому же, и вызвал, если разобраться…
«Чайка,Чайка, я Первый! — услышала она вдруг как бы издалека его несравненный голос. — Внимание, Чайка! Враг готовит провокацию! Будь начеку!..»
Она споткнулась в небе и стала как вкопанная. Что ж это творится-то, товарищи? Ой, да что ль, никак, и вправду заблудилася?
«Внимание, Чайка! Возможна провокация!» — донеслось снова.
«Я те, падла, дам коровокацию! — рыгануло в ответ. — Ишь ты, фрукт какой, стукач, обратно капает! Думашь, сдрейфит девка? Врешь, молодка выдюжит!..»
Пуская по небу мутную волну угрозы и обдавая растерявшуюся Чайку жаром стыда, выпузыривался лавой тяжкий, все же, стало быть, свекровин голос-бас из кирпичной трубы пятистенка с геранями в окнах:
— Я те дам девке моей башку дурить! Умный нашелся тут — бес! Ну-ко, дай мне твоего ума — подошву помазать! И ручищи-то у него — гляньте-кось, бабы — по локоть в кровушке русской! Сколь ты наших мальцов загубил, клещ, за свои ордена, за брякалки? Сколько душ христианских запакостил! И в аду не получишь прощения, враг народа ты, сука позорная!.. А ты, дева, не слушай его, жоха, ломом перепоясанного. Ныряй духом ко мне под крылышко. А мы его на чисту водицу выведем, погоди! Ишь, бельма-то налил бесстыжие, насосался народной кровушки, — хоть слепая, а вижу я. Знаю, знаю твои подвиги геройские, вспомни ты, палач, площадку волейбольную, ну-тка! Нет тебе ни веры, ни прощения!..
— Ат-ставить! — голос генерала Зукова визганул как по стеклу гвоздем. — Чайка, слушай мою команду!
Чайка уже не понимала, кого она слышит и кого ей в данной ситуации слышать следует.
— Брось, забудь его, дракона, девонька! — перекрывая, смывал далекого генерала приказ могучей свекрови. — Знает, знает кондопожская зечатина твоего генерала как облупленного. На шестой командировке дуроломной за растрату сидел, захребетник твой. Петухом был у воров, придурок пазорный, проиграл ворам корму свою раскормленную, — вот теперь он и лютует, вот и празднует свою месть всему народу, тварь бездушная!.. Не слушай худого человека, дочка! И никакая ты больше не чайка ему, просто девочка кондопожская, ягодка наша сладкая, иди к мамке, ну?..
— Чайка! Чайка! — надрывался вдали где-то, словно бы ветром уносимый голос генерала.
— Я те дам чайку! И слов-то твоих поганых никогда она больше не услышит… На-ко вон! Не видал такую — кондопожскую? Полюбуйся, поцелуй-ка меня в щелочку!..
— Чайка! Я Первый!
— Первый он — видали?! Ух, шестерка! Вот те — на-ко ся!
Фугасным взрывом сотрясла небо кондопожская ядреная свекровь.
— Чайка! — донеслось едва слышно, как из заваленной землянки.
Она чувствовала, что еще миг — и две враждующие воли, обе ярые и, быть может, равные по могуществу, скрестившиеся в ночном небе, разорвут пополам пустое облачко, именуемое с юга Чайкой, а с севера — ягодкой кондопожской. Она висела прямо над избой, где ожидало ее беспощадное, готовое оторвать ей крылья, простое человеческое счастье, властное, слепое, жадно ждущее беспрекословного ее солдатского подчинения своим законам. Ведь кто ж и насытит, кто же уймет обиду свекрови-большухи, одинокой в огромном пустом доме, как не ласковая да кроткая невестка! Муж гражданки Овецкой, купеческий сын и в Гражданскую белогвардеец, отец робкого Ростислава, доверившего тайну своей родословной лишь Чайке, сгинул в тридцать восьмом по доносу холостого ревнивого брата ослепшей от слез Домны Дормидонтовны, секретного сотрудника, тоже разоблаченного органами полгода спустя в качестве японского шпиона.
Но на стальном тонком натянутом тросе, как на поводке, придерживала сзади Чайку небесная свобода стратегических секретных полетов, — ведь недаром же избрана Муха и назначена Чайкой, недаром дано ей почетное право отыскать и уничтожить своим искренним распахнутым взглядом черного вражеского дракона — ведь он и есть, не исключено, вся ненасытная земная злоба и смерть. Так кого же послушать, в какую сторону податься? Хотела она, распятая, уже лишь одного — чтобы любой из двух голосов — в небе и внутри ее естества одновременно — одержал наконец верх. «Чайка!» — или послышалось? Тррах! Бабабздах! Всхлип, взбульк, всплеск — и снова обвальный грохот свекровкиной гаубицы живой — как будто сверзился с обозной двуколки ящик с винтовками и одновременно лопнула в воздухе шрапнель. И Чайка наконец поняла, из какого орудия ведет вслепую обстрел дальнобойная Домна Дормидонтовна, большая, по воспоминаниям Ростислава, любительница посидеть на досуге в кабинете уединенных размышлений — запорами страдает свекровь-большуха, прямо жуткое дело до чего.
Еще взрыв! И снова гром небесный. И вновь, и вновь…
Вдруг растянутая, как на двух резинках, Чайка ахнула всем своим телом-вздохом и понеслась к земле быстрее пули, потому что тяга от невидимого генерала Зукова со звоном оборвалась. Навстречу ей как бы взлетела тесовая крыша родной теперь уже избы. Чайка зажмурилась, увидев сквозь доски и потолок стопудовую Домну Дормидонтовну на перине. Свекровь храпела со свистом, лицом в пять подушек, и ягодицы ее, вздымающиеся под одеялом, как две половины земного шара, расколотого трудами ее мужа и брата, все еще оскорбленно всхлипывая и бурча, как бы друг на друга, колыхались после невидимого поединка так, что нерушимая купеческая изба покачивалась и стонала.
В ужасе Чайка очнулась, как всегда, Мухой.