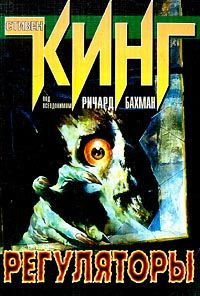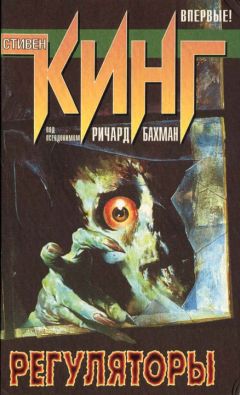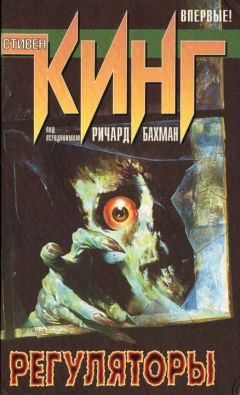Стивен Кинг - После заката
Ничего нет и быть не должно, лихорадочно думает она. Да, лихорадочно, как будто у нее снова прилив, хотя Дженет могла бы поклясться, что вся эта чушь закончилась еще два или три года назад. Ничего нет и быть не должно. Сегодня суббота, и ничего быть не должно.
Дженет открывает рот, чтобы отречься от своих слов, поправиться, сказать, что нет, наоборот, сон не сбудется, если про него не рассказывать, но уже поздно, и Харви говорит, и ей приходит в голову, что это наказание за неприятие жизни как пустой и бессмысленной. А ведь жизнь, она как тот кирпич в песне группы «Jethro Tull» «Thick as a brick», и разве можно думать иначе?
— Мне снилось, что было утро, — рассказывает Харви, — и что я спустился в кухню. И была суббота, как сегодня, только ты еще не встала.
— По субботам я всегда встаю до тебя, — напоминает Дженет.
— Знаю, но это же во сне, — терпеливо объясняет он, а она рассматривает бесцветные волоски на внутренней стороне бедра, там, где теперь висят жидкие, дряблые мышцы.
Когда-то Харви играл в теннис, но то время давно прошло. Ты умрешь от сердечного приступа, думает Дженет с несвойственным ей злорадством. Вот что тебя доконает. И может быть, кто-то даже решит, что твой некролог достоин «Таймс», но если в этот день умрет какая-нибудь второразрядная актриса из пятидесятых или малоизвестная балерина из сороковых, ты и этого не получишь.
— Все было так же, — продолжает Харви. — Вот и солнце так же светило.
Он поднимает руку, и пылинки вокруг головы оживают, и ей хочется крикнуть, чтобы он перестал, не делал так, не нарушал привычный порядок вселенной.
— Я видел свою тень на полу, и она казалась как никогда яркой и плотной. — Харви улыбается, и Дженет видит, какие потрескавшиеся у него губы. — «Яркая»… странное слово для тени, да? Как и «плотная».
— Харви…
— Я подошел к окну, выглянул и увидел вмятину на фридмановской «вольво». Не знаю откуда, но я знал, что он крепко выпил где-то, и вмятина появилась по пути домой.
Дженет вдруг делается не по себе, как будто она вот-вот упадет в обморок. Она тоже видела вмятину на «вольво» соседа, Фрэнка Фридмана, когда выглядывала за дверь проверить, не пришла ли почта (почта не пришла), и тоже подумала, что Фрэнк, наверное, гулял в «Тыкве» и зацепил что-то на парковке. Хорош же он был, именно такая мысль у нее мелькнула.
Может быть, Харви видел то же самое и теперь просто прикалывается? Почему бы и нет? Окна комнаты, в которой он спит летом, выходят на улицу. Да вот только не тот Харви человек. Прикалываться не в духе Харви Стивенса.
Пот на щеках, на лбу, на шее. Дженет чувствует его, и сердце колотится еще быстрее. Что-то за всем этим вырисовывается, что-то грядет, но почему же именно сейчас? Сейчас, когда мир так тих, а перспективы безмятежны. Если это я напросилась, прости, думает она. Думает или, может быть, уже молит? Мне ничего не надо, пожалуйста, сделай все, как было.
— Я подошел к холодильнику, — говорит Харви, — заглянул, увидел тарелку с фаршированными яйцами и жутко обрадовался — такой ленч в семь утра!
Он смеется. Дженет — то есть Джакс — смотрит в кастрюльку, где осталось одно сваренное вкрутую яйцо. Другие уже очищены и аккуратно разрезаны на половинки, желток вынут. Они лежат в чашке возле сушилки. Возле чашки — баночка с майонезом. Собиралась нафаршировать и подать к ленчу с салатом.
— Не хочу больше слушать, — говорит она, но так тихо, что и сама себя едва слышит.
Когда-то Дженет занималась в драматическом кружке, а теперь и на кухню голоса не хватает. Грудные мышцы вдруг раскисли, как раскисли бы ноги у Харви, вздумай он вдруг поиграть в теннис.
— Я подумал, что, пожалуй, съем одно, а потом решил — нет, она же раскричится. Потом зазвонил телефон. Я сразу к нему бросился, не хотел, чтобы звонок тебя разбудил. И вот тут начинается страшное. Хочешь страшное слушать?
Нет, думает Дженет, стоя у раковины. Не желаю слушать страшное. И в то же время ей хочется услышать это страшное. Страшное всем интересно, мы на этом повернуты. И потом ее мать действительно говорила, что, если рассказать кому-то сон, он не сбудется, а значит, от кошмаров нужно избавляться, а хорошие сны оставлять для себя, утаивать, прятать, как молочный зуб под подушку.
У них три девочки. Одна, Дженна, из тех, кого называют «веселыми разведенками», живет на этой же улице. И, конечно, имя ей не нравится — оно, видите ли, такое же, как у дочери Буша, — требует, чтобы ее называли Джен. Три девочки — сколько зубов под подушкой, сколько беспокойств и тревог из-за тех типов, что подкатывают на машине и предлагают конфетку, сколько предосторожностей. И как надеется она теперь, что мать была права, что рассказать дурной сон — это как вогнать осиновый кол в грудь вампиру.
— Я взял трубку — звонила Триша. — Триша, их старшая, обожавшая Гудини и Блэкстона, пока не открыла для себя парней. — Она только сказала: «пап», и я уже понял — Триша. Ну, ты знаешь, как это бывает.
Дженет знает, как это бывает. Своих детей узнаешь по одному-единственному, первому слову. По крайней мере пока они не вырастают и не становятся кем-то еще.
— Я сказал: «Привет, Триш, что так рано, милая? Твоя мама еще спит». Сначала никакого ответа. Я уж подумал, что нас разъединили, а потом услышал эти странные звуки, как будто человек то ли шепчет, то ли хнычет. Не слова — половинки слов. Словно она пыталась что-то сказать, но то ли отдышаться не могла, то ли сил не хватало. Вот тогда я и испугался.
Какой приторможенный, а? Сама Дженет — которую звали Джакс в колледже Сары Лоуренс и в драматическом кружке, которая лучше всех владела искусством французского поцелуя, курила «житан» и притворялась, что получает удовольствие от текилы, — испугалась куда раньше, еще до того, как Харви помянул вмятину на машине Фрэнка Фридмана. Сейчас, думая об этом, она вспоминает недавний, не прошло и недели, телефонный разговор со своей подругой Ханной, разговор перекинувшийся в конце концов на страшилки про болезнь Альцгеймера. Ханна звонила из города, а Дженет сидела у окна в гостиной, любуясь их прекрасным участком в один акр и чудесными растениями, от которых у нее свербело в носу и слезились глаза, и еще до того, как речь зашла о болезни Альцгеймера, они говорили о Люси Фридман, потом о Фрэнке, а потом кто-то — вот только кто? — сказал: «Если он не перестанет садиться за руль пьяным, точно кого-нибудь собьет».
— Потом Триша произнесла что-то вроде «лицо» — по-моему, это называется выпусканием слога, ну, когда у человека теряется в речи слог? — но дело было во сне, и я понял, что она говорит «полиция». Я спросил, при чем тут полиция, что она хочет сказать… и сел. Прямо вон там. — Харви указывает на стул в нише, где стоит телефон. — Она не ответила, молчала, потом снова начала что-то шептать, какие-то обрывки слов. Я так на нее разозлился. Подумал, вот же притвора, какой была, такой и осталась. И тут она произнесла «номер». Так четко и ясно. И я сразу понял: она хочет сказать, что полиция позвонила ей, а не нам, потому что у них нет нашего номера.