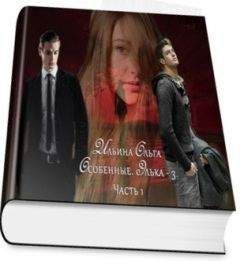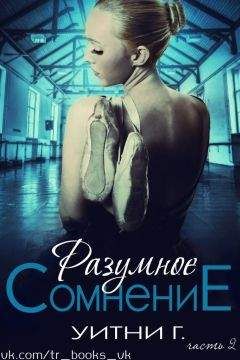Слава Сэ - Ева
Многие женщины знают, что смысл обаяния в движении. И никогда не встанут перед фотоаппаратом в позу бревна. Хоть чуть-чуть, но изогнутся упруго, чтобы зритель предчувствовал взмах, шаг или поворот головы.
Бывает, недурная вроде бы мадемуазель поворачивается и идёт прочь. И сразу видно, какая она корова. Тяжёлая и сутулая. А иногда наоборот, сидит, неприметная. Но поднимется тебе навстречу, и отрывается внутри какой-то пузырёк. И ты уже косишь в её сторону, и постоянно помнишь, где она.
Я бы стоял так и смотрел много лет. Язык не приспособлен описывать танцы, вяжется узлом. Пушкин рискнул писать танец Истоминой. Не в обиду поэту, вышло так себе. Из текста понятно лишь, Александр Сергеевич хотел бы изучить танцовщицу вблизи, притушив освещение. Я же подавно не справлюсь с пересказом Евиных кружений и перетеканий. Представьте себе сами что-нибудь прекрасное, умножьте на пять, получите примерно её танец.
Не знаю, как долго это длилось. Так по пробуждении сложно бывает понять, как долго ты спал. Музыка вдруг смолкла. Ева повернулась и деловито зашагала прочь. А я всё прятался за колонной. Опомнился, когда ей остался десяток шагов. Вот дверь, и сейчас она скроется. Вдруг очнулся, но чёрт меня дёрнул пошутить. Я был уверен, она узнает меня по голосу. И обрадуется, как в первый раз. Я перевесился через перила и заревел:
— Женщина в белом балахоне! Вернитесь!
Мне казалось, выйдет удачная шутка. Но, отражённый от стен, мой призыв превратился в звериный рык. Слов бы никто не разобрал. Эхо ещё не улеглось, а она уже неслась прочь, рассыпая на бегу какие-то бусы. Летела, подхватив подол. Я напугал её, дурак. Теперь нужно было догонять. Перелез через перила, повис на руках, до пола осталось метра четыре. Грохнулся как мешок с картошкой. Вряд ли кто-нибудь полюбит меня за изящество и пластику. Другое дело, за редкой силы разум. Побежал за ней — и тут в зале погас свет. Будто глаза высосали. Где-то в паутине коридоров, она повернула рубильник и теперь убегала всё дальше. Понятное дело, сейчас на её место примчится стража. Я позвал по имени, во всё горло — ничего не изменилось.
Свалившись с балкона, я разбил фонарь. Он оказался плоть от плоти этого тёмного города. Тоже враг. На ощупь добрёл до стены, подсветил телефоном дверной проём и вышел в лабиринт. Тут они меня искать замаются. И чёрт с ними. Главное, она здесь. Я вернусь сюда на танке. Буду проезжать сквозь стены. Проплутав минуты три, нашёл кабинет с окном на улицу. Открыл и спрыгнул в сугроб. Уже не заботясь, видят ли меня камеры и не зарыта ли под снегом засада. Я вам покажу, как связываться с выпускниками Питерской консерватории. Это только с виду мы задохлики. На самом деле, те ещё Тесеи.
Сугроб попался по грудь. Еле выполз. Домой пришёл мокрым. Никто за мной не гнался. Я развесил костюм преступника на стульях, придвинул к батарее. Час отмокал в душе и на следующее утро пришёл в больницу с опозданием. Проспал.
Глава восьмая
«…Здравствуйте, Юля.
С Вами приятно общаться, Вы совсем не перебиваете. Чем безмолвней собеседник, тем приятней разговор.
Я хочу рассказать, как играл в детском вокально-инструментальном ансамбле. Мне было двенадцать лет. Молодость уже заканчивалась, хотя со стороны так никто бы не сказал. Наш музыкальный коллектив был приписан к клубу ткацкой фабрики. Кроме нас, брутальных рокеров, в клуб ходили ещё пятнадцать женщин неясного музыкального вероисповедания. Для удобства их разделили на два ансамбля, „Ассоль“ и „Ноктюрн“. Обе команды желали друг другу сдохнуть в муках. До поножовщины не доходило лишь потому, что силы без остатка тратились на любовь к искусству в лице худрука Лёни. Многие считают, нет лучшей доли, чем руководить женским коллективом. Это верно лишь отчасти.
Лёня говорил, например, пианистке:
— Стаккато, Жанна! Умоляю вас, ещё более стаккато!
Женские сердца таяли от таких слов. Лёне приходилось себя сдерживать. Безбрежное сердце, он обожал всех. Он хотел, и не мог рассыпаться на пятнадцать маленьких Лёнечек. И ещё, он был женат на женщине без слуха. Представляете, как она ревновала?
Дамы пели лирические произведения. А у нас, юных музыкальных хулиганов, с репертуаром были проблемы. Лёня утверждал, петь про секс нам рано. А про всяких малахольных Буратин, мы считали, унизительно. Других песен Леонид не знал. Только про любовь и её ужасные последствия. Когда руководишь клубом на ткацкой фабрике, все мысли об одном.
Я недоумевал, чего он возится с этими старыми коровами. Им было по 22, а то и по 23 года. Солистке Ире скоро ожидалось вообще 26. Непонятно, как она выходила к микрофону и не рассыпалась, птеродактиль.
Теперь-то, догадываюсь, у неё водились ноги, попа и другие слагаемые женской красоты. И вся она могла быть ничего себе. Но в двенадцать лет мужчина не склонен прощать недостатки.
Участницы обожали музыку с маниакальной страстью. Слушать их было невыносимо. Они мучили гитары, рояль и слушателей. Они издевались над своими же подругами по текстильной промышленности, в их же клубе, после всяких перевыборных собраний.
Чтобы коллективы звучали гармоничней, Лёня прятал в кулисах своего консерваторского друга Пашу. Паша шпарил на йонике. Сам Лёня гитарасил со сцены. Выходило живенько, швеи-мотористки хлопали.
Паше тоже нравились старые коровы. Ему хотелось бы оттянуть на себя парочку, или больше. Но был он маленький, в очках и в кулисах. Артистки на него не глядели. У них было соревнование, кто первой укусит Лёню за губу. Или за что-нибудь.
И тогда Паша изобрёл цветомузыку. Это был посылочный ящик с клавишами от пианино. Адский прибор с оголёнными контактами. Нажимаешь „соль“, внутри опасно трещит электричество, сыплются искры, и на рампе загорается оранжевый фонарь. Или синий. Паша сыграл для примера небольшую композицию. Девушки сразу поняли, какой он редкий смельчак и повелитель фейерверков.
Начался концерт. Коллектив запел юмористическую песню о безответной любви в плохую погоду. Паша грянул на цветомузыке. Полетели синие и красные брызги. Он был весь как демон сиреневых молний. Потрясённые ткачихи не справлялись с зайчиками в глазах. Во втором куплете, на словах „если б сзади подошла ты“, Пашин ящик загорелся. В небе хлопнуло, свет погас, женский скулёж смолк, будто весь ансамбль мгновенно и беззвучно застрелили. Лишь в темноте, яростно матерясь, Паша сражался с пламенем.