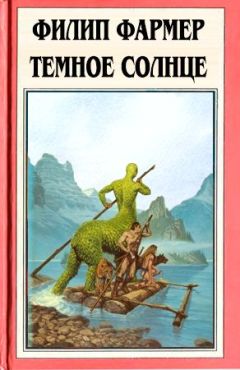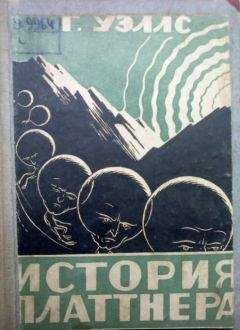Александр Шаргородский - Капуччино
Наверное, этот напиток пили боги на Олимпе, после обеда.
И они выпили тоже, потому что тогда они чувствовали себя Богами, у которых ныли ноги, болела спина, першило горло. Неизвестно, может у Богов тоже иногда першит…
После капуччино прошло все, будто вы заново родились, сеньоры и сеньорины…
Да, Сол Дэбс еще помнил свой первый капуччино.
Шесть лет они мечтали о Риме, без отпусков, без выходных, а на седьмой, Нана помнит — это была пятница, — они вылетели в Вечный город…
* * *Видимо, Рим очень изменился за это время, потому что он сильно разочаровал мистера Дэбса.
Что вы хотите, семь лет — это срок даже для вечного города.
Во-первых, биржа. Это был позор. Казалось, она построена при Нероне.
Это была вековая отсталость.
Сол вспомнил чикагскую, ее шум, крики, накал, и ему стало тепло.
Во-вторых, «Уолл Стрит Джорнэл»!
Это было безобразие — ни в одном киоске он не нашел своей газеты. Можно было подумать, что город живет еще при Константине. Бездельники в тратториях читали какие-то «Мессаджеро» и «Стампу», и Дэбс смог добыть ее только в родном посольстве.
Он гордо развернул ее прямо под звездно-полосатым флагом…
И, в-третьих — рубахи! Он ничего не понимал — как можно надеть утром рубаху, которую снял вечером?!
— Они в них родились, — ворчал он, — и не снимают.
Сол Дэбс менял рубаху ежедневно. И носки. И галстук.
Он все менял ежедневно, только машину ежегодно.
Вы поймете это, когда у вас проснется нюх, уважаемые сеньоры и сеньорины…
* * *…И, наконец, они доехали до площади Кампо ди Фиори. Сол отказался идти пешком — вонь! — и они поехали туда на такси, на каком-то дряхлом «фиате». Дэбс долго искал «кадиллак» или «бьюик», но, конечно же, ничего не было.
Они взяли машину на Венетто и помчались вниз к Термини, миновали Пьяцца Республика, промчались по виа Национале и ворвались на гремящую пьяцца Венеция.
Мистер Дэбс ничего этого не видел — он изучал «Уолл Стрит Джорнэл».
На Корсо он вдруг радостно вскрикнул.
— Нана, — почти завизжал он от радости, — акции «Юнайтед Карбайд» поднялись на два пойнта. Ты слышишь, ты понимаешь, что это значит?!
Она смотрела вперед, на две церкви Пьяццы дель Пополо. В голове ее пела флейта синего музыканта…
— Ты какая-то странная, — произнес Сол Дэбс и зарылся в газету.
Так они и доехали до Кампо ди Фиори.
Траттория ничуть не изменилась — те же столики, стулья. Виноград опять был молод. И опять воскресенье. Римский полдень…
Они взяли фирменное блюдо — морской волк в белом вине с тосканскими травами в листьях спелого винограда.
Обслуживали, как ему казалось, долго, лениво. Впрочем, это было на руку — он успел изучить биржи Лондона, Цюриха, Амстердама, и, когда подали блюдо — он скорчил рожу — оставалась биржа Парижа, не такая важная, но все же…
Обед ему не нравился — морской волк явно попахивал обыкновенной треской.
Травы безусловно были не тосканские, какие-то сорняки, откуда-нибудь из-под Пскова.
И листья — не виноградные, в лучшем случае липовые.
Он все отодвигал, просил заменить.
— Даже в Техасе не подадут такого, — уверял он, — к тому же официанты хамят. Ты не заметила?
Нана промолчала.
Сол скинул пиджак, расстегнул ворот и положил ноги на стул.
Чего-то ему было не по себе. Казалось, что он ощущал на затылке чей-то взгляд; Он обернулся — на него смотрел Джордано Бруно.
Как-то некрасиво смотрел…
— Чего он глазеет?! — недовольно спросил мистер Дэбс, — не я ведь его, в конце концов, сжег!..
Это была правда.
Он отвернулся и заказал мороженое. Ассорти. Семь сортов. С кремом. Из узкой примыкающей улицы появился музыкант. Это был не синий флейтист, а старик-скрипач, совсем седой, плохо одетый, с потрепанным футляром.
Он остановился перед тратторией, достал скрипку, подмигнул и заиграл Вивальди. «Времена года». Лето…
Сол морщился.
— Обед и так не из лучших, — ворчал он, — какого черта он нам отравляет аппетит?
Скрипач доиграл до конца, снял кепочку, подошел.
Мистер Дэбс не дал ни лиры.
— Бог подаст! — сказал он. — Работать надо, а не пиликать. И потом, рубаха — они их когда-нибудь переодевают?..
— Шая… — сказала Нана.
Он не понял.
Сол Дэбс начинал подзабывать свое имя.
Когда открывается нюх, закрывается многое другое, уважаемые сеньоры и сеньорины. Иногда даже собственное имя.
— Шая, — повторила она, — я хочу капуччино…
— После такого обеда?!
— Да.
— Хорошо. Только не здесь. Меня раздражает эта площадь. Взгляни — эти вонючие лужи еще с прошлого раза, ты помнишь? И вода. Она будет литься вечно, и никто ее не закроет. А стены — ни одного живого места. «Рома-Амор» — это же смех! «Амор», который весь в дерьме! Я удивляюсь, что этот город столько тянет. Поверь, он скоро разложится. И потом, этот тип — он кивнул в сторону Бруно, — что он хочет? Вертится земля — не вертится?!! Какая разница? А?!
— Я хочу капуччино, — сказала она.
— Идем. Идем.
Он начал отсчитывать деньги.
Подошла собака, положила морду на их столик. Сол пнул ее ногой.
— Пшла вон!
Он не любил посторонних, когда считал деньги.
— Ну, кому я сказал, вон!.. — Затем он лениво бросил: — Эй, такси, такси!
…На Пьяцца Республика, бывшей Эдера, в кафе, под высокими глухими арками, они взяли капуччино.
Оно здорово подорожало, и он пил стоя. Какого черта садиться!..
Ему казалось, что кофе кислит. Что пены мало и что она недостаточно бела. Зачем надо было тащиться на край света, когда можно было выпить в Нью-Йорке — дешевле и ближе…
Или вообще купить машинку и готовить, не вылезая из постели.
Мистер Сол Дэбс на Рим не смотрел. Он считал. У него получалось, что за 120 таких чашек он может купить машинку. Это за «стоя». А за «сидя» — так за каких-то восемьдесят… Всего!..
Не допив, он отодвинул кофе, попросил чек и спрятал его в бумажник змеиной кожи.
«Хоть с налогов спишу», — подумал он.
Наны рядом не было.
Он огляделся — она сидела невдалеке, под аркадами, за столиком, покрытым клетчатой скатертью, с остывшим капуччино и смотрела на какие-то развалины.
Вы знаете, в Риме много развалин.
— Нана, — сказал он на Пьяцца Республика, — почему ты плачешь, Нана? — спросил он на бывшей Пьяцца 0зедра.
Ее веки дрожали.
— Это капуччино, — ответила она, — всего лишь капуччино…»
* * *Виль кончил. «Литературовед» молчал. Молчал и его хозяин.
— Это — победа, — наконец, улыбнулся он.
Виль вздрогнул:
— Ты знал Кача?..
— Я бывал в Мавританской, — сказал Бем, — не помнишь?..
На глазах «Литературоведа» были слезы.
— Это капуччино, — объяснил Бем, — всего лишь капуччино…
* * *Городок, где учился русскому Виль Медведь, был всего двуязычный, и делился небольшим ручьем на две лингвистические части — шведскую и ирландскую.
Направляясь туда, Виль всегда приклеивал пышные турецкие усы и напяливал тюрбан — в таком наряде его б не узнали даже в Мавританской гостиной.
Впрочем, он не боялся, что его узнают — университеты двух городков, где он учился и где преподавал, не поддерживали никаких связей, не обменивались профессорами и студентами, а славянские кафедры откровенно враждовали. Это было главной причиной, почему Виль выбрал именно этот университет.
Кафедры презирали друг друга.
У каждой из них была своя методика преподавания русского и свой русский.
— У вас не русский, — холодно говорила одна кафедра.
— У нас?! — возмущалась другая, — это у вас неизвестно что. А нас понимали в Сибири!
— Кто? Волки в тайге?
— Коллега, постеснялись бы. Ваши выпускники не могут поздороваться, а прощаются на — хинди.
— Ложь! Наш русский признан в Москве.
— Расскажите это вашему дяде.
Профессура этих Альма Матер между собой не разговаривала, шефы кафедр делали вид, что другого не существует в природе, и если один на конгрессе заказывал чай, то другой обязательно пиво. И в противоположном углу.
Когда Ксива говорил по-русски, фрекен Бок стонала от смеха. То же самое делал Ксива, когда по-русски бормотала фрекен. Самым мягким словом, которым один награждал другого, было «кретин».
Со временем Виль научился довольно свободно коверкать русские слова, и фрекен Бок была им довольна. Главное было — на обратном пути забыть все это, очистить голову и небо, вспомнить родной — великий и могучий, превратиться из Назыма в Виля. Он читал про себя Лермонтова, Пастернака, Ахматову. Свежий ветер врывался в его душу, прочищал мозги.
«Я к розам хочу, в тот единственный сад», — пело внутри.
За окном проносились кони, коровы, барашки, — счастливые создания, которым не нужно было ни языка, ни диплома.