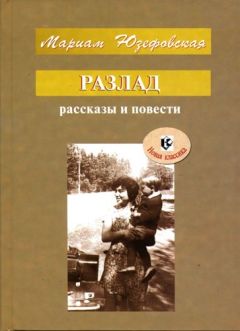Мариам Юзефовская - Господи, подари нам завтра!
А сестра моя, казалось, ничего не замечала. Словно вся эта пена жизни, весь сор обминали ее стороной. Теперь по утрам, пользуясь отсутствием тетки, она накидывала на плечи потертую плюшевую скатерть, которую тетка берегла пуще зеницы ока.
– Девочки! Ради Б-га, осторожней! Видите? Она уже дышит на ладан. Это единственная память, которая осталась у меня от дома на Госпитальной, – твердила нам она, вынимая изредка скатерть из сундука на всеобщее обозрение. Но скатерть так плавно ниспадала с плеч к полу и переливалась такими красками от небесно-голубой до густо-синей, что сестра не могла удержаться. Она скалывала ее у горла большой английской булавкой и, подхватив, точно шлейф, ее бахромчатый край взбиралась на подоконник. Широко распахнув створки окна, сестра подходила к его краю, словно к рампе сцены и, низко поклонившись, начинала распевно:
– Ши-ро-ка страна моя родная. Много в ней полей, лесов и рек.
Я другой такой страны не знаю-ю, где-е так сча-а-астлив был бы че-ло-век.
И тогда открывались окна, и мальчишки со двора начинали одобрительно свистеть. А она кланялась, кланялась, кланялась.
Я помню обезумевшее лицо тети. Ее остекленевший от ужаса взгляд. И намертво сцепленные руки. Она стоит, вжавшись в косяк. Дверь содрогается от ударов. Хлипкая фанерная филенка трещит и гнется. Кажется вот-вот рассыплется в щепу. « Юден! Аусштайген! Антретен! (Евреи! Выходи! Стройся!)», – злобно кричит из коридора Колыванов.
Тетка, словно завороженная, смотрит на трещину, что растет и ширится с каждым новым ударом. При выкрике «Юден» она судорожно вжимает голову в плечи. «Отец, ну, отец», – слышатся тихие причитания Колыванихи. На миг все стихает. В кварире повисает жуткая тишина, словно все вымерли. « Юден! Аусштайген! Антретен!» Сильный удар вновь сотрясает дверь. Я вскакиваю с кровати.
Тетя, словно угадав мои мысли , стремглав кидается наперерез. « Не пущу, – тяжело хрипит она, раскинув крестом руки, – не пущу!»
– … Ты чё, их жалеешь, что ли? – доносится до меня со двора сиплый голос Колыванова.
Стою, притаившись у окна, и слышу все до последнего словечка.
– Я этот народ знаю. Мы около Трактороного жили. Их немцы туда на работу гоняли. Так они через нас вещи на хлеб меняли. Торгуются, ни крошки не уступят. Покойный отец, бывало, подмигнет мне. Я выйду тишком в сени да как грюкну там ведром али еще чем.
Да как гаркну: «Юден! Аусштайген!» – их будто ветром сдувает. Бебехи свои, хлеб – все побросают и бегут, – Колыванов смеется мелким раскатистым смешком.
– Ну и сволочь же ты! Сволочь! – с презрением режет в ответ Малицина. – Небось там люди были с малымим детишками. Для них, для ребятенков своих, клянчили.
Я чувствую как горло мое сжимает тесное кольцо. И тотчас впиваюсь зубами в руку.
– Ненавижу, ненавижу! – хочется крикнуть в голос.
Но я еще крепче сжимаю зубы, пока не чувствую на губах солоноватый привкус крови.
Об этом разговоре никому, ни слова. Тем более – тетке. И без того она как-то совсем притихла. Стала рассеянна. Начала все чаще вспоминать гетто. Иногда застынет, словно в столбняке, и, глядя в одну точку, тихим монотонным голосом забормочет:
– У других были деньги, продукты, одежда, а у нас – ничего. Мы с собой ничего не могли взять. Мы несли на руках бабушку.
И еще она совсем мало стала есть. Клюнет крошку, другую – и оцепенеет.
– Тетя, – окликнешь, бывало, ее.
Она встрепенется, бросит удивленный взор, словно не узнавая нас, а потом улыбнется тихой слабой улыбкой и скажет, глядя прямо в глаза:
– Я боюсь много есть. Те, кто привык много есть, там сразу же умирали.
Как-то раз я заметила, что она прячет под свой матрас разношенные бурки, драный платок, старое пальто, перешитое из ношеной офицерской шинели нашего отца, и узелок с сухарями.
– Ты зачем это делаешь? – строго спросила ее.
Она испугалась. Глаза суетливо забегали:
– Так нужно. Не спрашивай, – и застыла, сцепив руки в замок.
Теперь она часто сидела так, с отрешенным взглядом, словно чего то ожидая и н напряженно вслушиваясь в звуки, доносящиеся из-за двери.
Однажды душным летним вечером она внезапно подхватилась:
– Ты слышишь? Звонят! Это за мной.
Откинув матрас, стала лихорадочно напяливать на себя бурки, пальто и платок. Прятать за пазуху узелок с сухарями.
Несколько секунд я смотрела, ничего не понимая, потом кинулась к ней:
– Ты куда?
– Тс-с! – она приложила к губам свой веснушчатый палец. В глазах ее был неподдельный ужас. – Тс-с. Не кричи. Дочка бабки Гарпыны услышит. Она нас всех выдала. Прячься! Прячься! – подтолкнув меня к кровати, кинулась сама к двери. Вдруг отпрянула. Лихорадочно начала ощупывать рукава, грудь, – я забыла пришить латы.
Я забыла пришить латы, – побелевшими губами шептала она.
– Какие латы, тетя? – холодея от страха, спросила я.
– Быстро ищи какой-нибудь желтый лоскут! – выкрикнула она и тонко, заливисто засмеялась.
Вскоре мы с сестрой переехали на Тирасполькую. А нашу комнату на Ришельевской дед закрыл на большой висячий замок.
Тетю обычно навещали по воскресеньям.
Ехали через весь город в старом обшарпанном трамвае. Колеса глухо стучали на стыках. За тусклым окном плыли маленькие приземистые домишки с неказистыми палисадниками, покосившиеся заборы, пыльные грязные улицы.
Мы выходили на последней остановке и шли по дорожке, усыпанной крупным щебнем через старый заросший парк. У входа в двухэтажное серое здание, дед ненадолго замирал, затем с силой толкал плечом тяжелую массивную дверь. Мы входили в вестибюль, полный народу. Здесь стоял ровный приглушенный гул. Дед, как-то странно скособочившись, направлялся к мужчине в грязновато-белом застиранном халате. И начинал обхаживать его, выбирая удобный момент. Потом торопливо совал ему в карман неизменную трешку и, просительно заглядывая в глаза, тихо, одними губами шептал:
– Будьте так добренькие, товарищ санитар. В третьей палате.
Рыженькая такая, Коган.
Обычно, не оборачиваясь, санитар цедил сквозь зубы:
– Ждите.
Но был один с лицом, заросшим черным курчавым волосом и выпуклыми водянистыми глазами.
– Наш, – сразу же определил его дед.
Этот тотчас пугался. Отпрянув от деда, громко, на весь вестибюль кричал:
– Не положено!
И тогда равномерный гул голосов вдруг стихал. В вестибюле повисала мертвая тишина. Люди оглядывались на деда, а он, понурившись, шел через весь зал к нам.
– Жид, – злобно шипел дед и стискивал уцелевший кулак.
Но через час, другой, униженно улыбаясь, вихляясь всем туловищем, снова робко направлялся к санитару. Ловким скользящим движением совал ему в карман еще одну трешку и, заглядывая в глаза, заводил свое:
– Будьте так добренькие!
Санитар каменно молчал. Потом бросал на деда быстрый взгляд.
И тот, пятясь, кивая на каждом шагу, возвращался к нам:
– Пошли скорей! Ее сейчас приведут.
В эти минуты я ненавидела деда всей душой. Его заискивающую улыбку, его вихляющую походку, его униженное «будьте так добренькие». Я ненавидела до колотья в груди этого мутноглазого санитара.
Я ненавидела всех евреев мира. Я ненавидела себя.
Тетку выводили к нам в больничный сад в линялом заношенном байковом халате, подвязанном вместо пояса куском грязного бинта. Она шла, вперив взгляд прямо перед собой.
– Стой, – командовал санитар и дергал ее за халат.
Тетя останавливалась, точно вкопанная, держа руки по швам.
Никого из нас она не узнавала. Да и на себя, прежнюю, была не похожа. Без рыжей пристежной косы, коротко, по-мужски, подстриженная, с внезапно обострившимися чертами лица и выступившим вдруг вперед крупным носом, она стала разительно походить на деда.
Казалось, болезнь напрочь стерла ту разницу в летах и обличье, что была между ними.
– Маня, Манялэ, – тоскливо дребезжащим голосом окликал ее дед, – смотри, к тебе дети пришли. Смотри, что мы тебе принесли!
Взгляд тетки равнодушно скользил по кулькам и коробкам, которые вытаскивал из корзины дед, по нашим застывшим испуганным лицам, по голубым садовым скамейкам, по низкому зеленому кустарнику. Иногда она пугливо озиралась и выкрикивала какимто диким, пронзительно диким голосом:
– Их бин юде (я еврейка), – приседала, обхватив голову руками и пряча ее в колени.
Сколько я помню, она так ни разу нас и не признала. И лишь однажды, внезапно просветлев, пошла навстречу сестре быстрым скользящим шагом, выкрикивая на ходу:
– Момэлэ! Момэлэ! Их гей цу дир (мамочка, я иду к тебе).
Подойдя совсем близко, воровски оглянулась на санитара и вытащила из рукава кусочек черствого заплесневелого хлеба:
– Эссен (ешь)!! – еле слышно прошелестела она и сунула его сестре.
Та в испуге отпрянула.
– Нэмен (возьми)! – дед ткнул сестру в спину кулаком, – немэн, – со слезами в голосе повторил он.