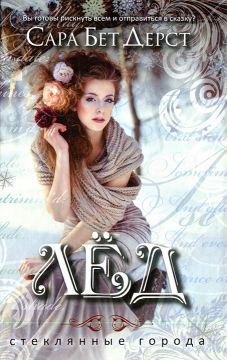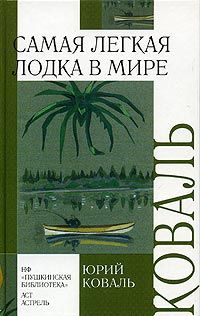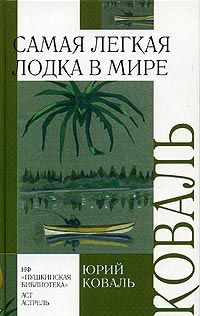Таир Али - Идрис-Мореход
Он говорит о приходе мессии — Сахибзамана, и неожиданно мистический миф о спасителе обретает особую живость для островитян, отрезанных от мира зловещим карантином. Для них, завороженно следящих за его руками, вскинутыми вверх, образ скрытого до наступления времен неведомого мессии становится образом ахунда Гаджи Сефтара.
Они ждут чуда и спасения.
В последнем письме Мамед Исрафил сообщает, что удача по–прежнему сопутствует ему, и он собирается расширить дело и открыть еще одну кондитерскую–пекарню рядом с Тагиевским Пассажем, и что жена его опять беременна, и что Зибейда–ханум тоскует и часто плачет…
В Идриса Халила стреляли в ночь со вторника на среду. Мягкая револьверная пуля разбила окно и, рикошетом отскочив от стены, застряла в створке бельевого шкафа. В чуткой тишине полуночи звук выстрела разбудил дворовых собак.
Как гласит семейное предание, его спасла упавшая ложка. Но кто поклянется?! Ведь сказано, что даже лист не упадет с дерева, не будь на то чьей–то воли!
Так или иначе, но без четверти двенадцать обычная посеребренная чайная ложечка еще довоенного производства соскользнула с края стола на пол. Идрис Халил, в это время рассеянно листавший немецкий путеводитель 1913 года «Города и Губернии Российской Империи», где на странице 249-ой были помещены оживленные цветной ретушью виды бакинской набережной и дебуровского особняка (принадлежащие если не кисти, то объективу покойного Ивана Акоповича), отложил толстую книгу в сторону и полез за ложкой под стол. С улицы раздался выстрел. Оконное стекло раскололось и посыпалось на подоконник, на котором лежал круглый поднос с сахарницей изумительного кобальтового цвета.
Наступила тишина — тревожная, короткая, словно бы сплетенная из прозрачных шорохов безлюдных улиц и несмолкающего гула моря. В разбитом окне, разлетаясь концентрическими кругами от полной луны, холодно пульсировали звезды.
Идрис Халил своим дыханием отмеряет время. Он закрывает глаза, и тотчас комната, освещенная светом волшебной лампы, и искрящиеся кусочки стекла, и звезды — исчезают, возвращенные в небытие.
Темнота длится всего лишь мгновенье, но время, как известно, в прошлом и будущем течет по–разному.
И вот уже Идрис Халил стоит у распахнутой створки бельевого шкафа, в которой застряла пуля. Ногтем выковыривая расплющенный кусочек свинца, он вдруг резко оборачивается, словно охваченный внезапной мыслью, и смотрит на свое отражение в маленьком зеркале на стене. Но вместо лица — лишь странное роение огненных светлячков.
Мамед Рафи ссыпает осколки стекла в железное ведро. Самого его не видно, только тень, словно гигантский паук, ползет по стене.
— Вас ведь Аллах спас, ага–начальник! Надо бы раздать милостыню…
— Подай–ка папиросы!
Ночь, волнами накатывающая из окна, остро пахнет весной: это земля острова уже сочится терпкими соками. Охваченная томлением, она с каждым днем становится все более рыхлой и теплой на ощупь, но в этом пробуждении пока больше смерти и тления, чем жизненной силы. Невидимые глазу семена трав неподвижно покоятся в своем гнилостном мраке, и длинные твердые корни смокв, переплетенные с телами мертвецов на окраине старого кладбища, еще не начали своего обычного подземного роения, мешающего могильным ангелам Инкиру и Минкиру вести бесконечные допросы…
Еще одни парные ангелы, как и те двое, что перекликаются в роще…
Скоро зацветет миндаль.
Идрис Халил садится на кровать. Болит голова.
10
Просто один из дней в самом конце апреля.
Из трепетной паутины света выплывает странный сад с его симметричными рядами обгоревших стволов и каменными дорожками, покрытыми жирной копотью. Единственное живое пятно — бурый мох, проросший сквозь трещины в кладке полузанесенного песком бассейна.
На край ограды садится дрозд.
Сад — причудливый призрак, застрявший в текучем безвременье между прошлым и будущим. Его черный остов, позолоченный утренним солнцем, отражается в мутных окнах веранды, на которой в кресле–качалке, закутавшись в плед, по обыкновению сидит кукольный полковник Мир Махмуд Юсифзаде.
Полковник дремлет. Убаюканный мерным поскрипыванием кресла и роением легкой пыли, пронизанной светом, он тихо плывет в блаженной пустоте своих старческих сновидений, забавно наморщив фарфоровое личико.
На невидимых часах одиннадцать пополудни.
— Просыпайся, джаным! Ты слышишь?.. Пора пить чай!
Полковник открывает глаза, откашливается и, стянув с головы вязаный берет, привычным движением приглаживает жидкие кудряшки на затылке.
— Ты идешь? Чай стынет!
Они садятся за стол в маленькой столовой на первом этаже, вплотную примыкающей к кухне. Здесь сумрачно и тихо. Приходящая кухарка, из местных, подает сливочное масло, молоко в крынке, овечий сыр и мед. Чаевничают молча, под будничный звон посуды. Над столом вьется парное дыхание кипящего самовара.
Закурив, полковник берет с подноса, на котором стопкой лежат газеты, самую верхнюю. Это «Азербайджан» (из–за карантина газеты теперь доставляют на остров с опозданием на несколько дней, но это неважно). Вся первая полоса посвящена подготовке большой трехсторонней конференции в Тифлисе и войне с Деникиным. Бегло просмотрев редакционную статью, он переворачивает страницу и среди рекламных объявлений в витиеватых рамочках находит сообщение о кончине старейшей жительницы столицы некой Фатьмы Кярбалаи, которой за месяц до смерти исполнилось 114 лет.
Теплый бриз колышет занавесь.
— Хорошее сегодня утро!
— Да, сразу видно, что весна…. Хочешь еще чаю?
Полковник качает головой. Где–то в глубине сгоревшего сада таятся длинные тени.
С самого утра маленькая площадь перед особняком непривычно пуста. Куда–то таинственным образом пропали каменщики и плотники, работавшие на строительстве мечети, а вместе с ними и водовоз Муса Рамазан — беженец из Эриваньской губернии — обычно дежуривший со своей подводой на углу, и солдат–охранник. За целый час нет ни одного прохожего. Только косые струи солнца, проливающиеся сквозь просветы в зарослях виноградников над каменными заборами, да жемчужное небо без единого облачка.
Покой. Апрельский полдень. Присутствие времени угадывается лишь по ленивому шелесту ветерка в кроне чахлого абрикосового дерева, стоящего прямо посередине площади. Над горизонтом, вкруговую опоясывающего остров — три полоски белесого дыма. Это «Африка», «Ильдрым» и «Ингилаб» несут свой дозор.
Но все может измениться в одночасье — как известно, пространство и время в сновидениях целиком зависят от воли сновидца…
Когда оставив в пепельнице дымящуюся папиросу полковник встает из–за стола и возвращается на веранду, на площади вдруг замирает божественный метроном: клейкие листья абрикоса безвольно провисают в томном воздухе.
Наступает короткое безвременье…
Потом три полоски дыма на горизонте, качнувшись, выгибаются вправо, и сразу же мягкий золотистый свет весеннего полудня, словно бы пропущенный сквозь жидкое стекло, приобретает неожиданную глубину и резкость, от чего тени на мостовой заметно удлиняются. Скрывая солнце, одно за другим захлопываются небеса — от первого до седьмого.…
Движение возвращает время. В порывах влажного северо–западного ветра трепещет крона абрикосового дерева.
Перед парадным входом губернаторского особняка в два ряда выстраиваются солдаты. Подъезжает фаэтон. Из него энергично выходит Идрис Халил. Следом — Мамед Рза Калантаров (все происходит чуть быстрее, чем должно быть, словно в старой кинохронике).
Крупный план: Идрис Халил стоит в самом центре моего сновидения, подпирая папахой стремительно темнеющее небо, вот–вот готовое пролиться на него быстрым дождем (возможно, это просто аберрация взгляда, вызванная исторической перспективой и наслоением придаточных предложений). В наэлектризованном воздухе для создания большего эффекта, словно магниевые вспышки фотоаппаратов, сверкают люминесцентные змеи–молнии, а где–то в глубине сцены, за безвкусным декорациями, изображающими плоские крыши уродливого поселка, уже грохочет жестяной гром. Все очень подробно, очень рельефно: его гладко выбритые щеки, обтягивающие высокие скулы, и отливающие медью кончики республиканских усиков, и выставленный вперед подбородок с небольшой ямочкой, и прозрачная тень от папахи, опустившаяся почти до середины лица.
Идрис Халил подходит к двери, оборачивается:
— А вы?
— Я лучше подожду здесь. — отвечает Калантаров, пряча глаза.
Сейчас пойдет дождь.
Долгое эхо почти нежилого дома. Оно катится по холлам и пустым комнатам особняка, большей частью совершенно заброшенных после злополучного пожара, в огне которого, среди прочего, сгорели и чудесные ковры с цветными геометрическими верблюдами, идущими по замкнутому кругу. Эхо то разрастается, бесконечно усиливая громыхание солдатских сапог, то почти затихает, уступая место тихому потрескиванию мебели и отрывистым голосам жандармов, доносящимся с улицы.
![Андре-Марсель Адамек - [Самая большая подводная лодка в мире]](/uploads/posts/books/127633/127633.jpg)