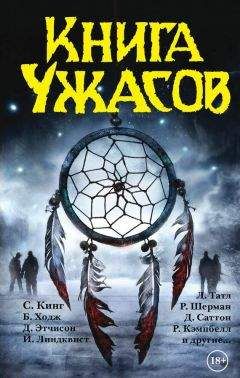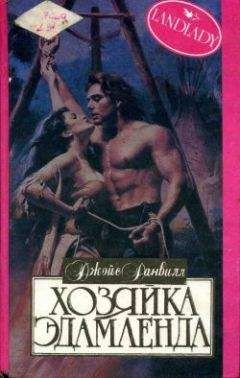Петр Краснов - Заполье. Книга вторая
Чего это они взялись все худобой его попрекать? Что ж, отвечать если, то откровенностью той же:
— Да нелады тоже какие-то — неясные пока, таскаюсь в поликлинику… — И, будто вспомнив, прокашлялся, осиплость какую-то надоедную одолевая. — Слушай, ну возьми тогда Ермолина моего, не пожалеешь — кругозор, перо завидное, въедливость!
— Этот… как его… Яремник который? Читаю, как же. Нет, Иван, вас там четверо с удостовереньем волчьим, всех зафлажили.
— Прямо-таки списком?!
— Проскрипционным. Издержки демократии без границ и запретов, в том числе и на проскрипции… чему удивляешься? Так что лягайте на дно пока.
— Ну так возьми внештатником его хотя бы, псевдоним недолго сменить… Из-за меня претерпели, потому и прошу.
— А стиль? — давая понять, что шутит, усмехался Валерий. — А боевую злость куда денешь, сховаешь? Беда с вами, которые с плетью на обух… Ладно, оставь телефон его, поговорим. Но нужно время, сам понимаешь, пока пыль осядет, подзабудется — в отношении тебя особенно… Напылил изрядно, что уж там. И охота тебе.
— Не охота — нужда…
Ну нет у человека сего нужды, охоты тоже, у слишком многих ее нету, а ты все никак не Хочешь, не позволяешь себе понять это… Должна же вроде по всему человеческому разумению быть — а вот нет ее, настоящей, одни невразумительные пожеланья с надеждами, ни на чем не основанными.
Идеалистом себя никак уж не назовешь, в вонючей грязи реальности этой многие уже годы копаешься, а вот привыкнуть к ней не получается. Смирения нету, Сечовик прав, гордыня не позволяет, хотя сам-то на смирившегося тоже никак не похож. И что означает оно и в чем право это смиренье народное? Не знает, куда и как идти? Да будь тогда хоть каким умником-разумником, а если уж не знаешь, куда идти, так лучше постоять-подумать, чем переться наобум и сломя голову. Вот он, пожалуй, истинный-то застой, и сколько продлится — не скажет никто.
Утром на всякий случай набрал номер, не надеясь застать, — и ответила с сонной хрипотцой, лениво; но тут же, узнав, вздернулась голосом: «Чего еще надо?! Исчезни!..» — «Увы, пока не могу. Машинку свою забрать пишущую, нужна». — «На работу занесу, после двенадцати. У вахтерши получишь». И гудки, какие отбоем называются.
Но вахтерше ничего не передавала, хотя уже пришла, и он направился под лестницу, к кабинетику ее, толкнул дверь.
— A-а, борец за идею… Вон твоя любовница, забирай.
— Что на вахту не отдала?
— Да посмотреть хочу, как нуль выглядит… — Наряжена была вызывающе, в совсем уж коротенькой юбочке, ножка точеная на ножку — ждала, темные, без зрачков глаза бесстрастны, губки презрением поводило. — Ты — нуль теперь, полный. Круглый, как дурак… ты хоть усек себе это?
— А ты — палочка? Давай-ка без сцен. Не взлетай… Видел я, как куры летают. Картину вернуть?
— Чтоб я изрезала ее?! — то ль усмехнулась она, не понять, то ли в мгновенном каком-то бешенстве зубки осклабила мелкие, прикрыла на мгновенье же глаза… Представляя, как режет? С нее станется, темперамент еще тог, субтропический. И глянула пусто уже, уничтожающе и сказала, словами никакими не брезговала порой: — Ну, вот и довыделывался… Перевести тебе, что такое лузер? Иль милей исконное-посконное — отброс, скажем?
— Не трудись, верю: грязи в тебе на семерых хватит… — Вот чего не надо, так это перебранки, довольно с нее и сказанного, остановись. Прихватил со стула чемоданчик «Эрики», дверь открыл. — Нет, рад, что разочаровал. Прощай, Тина.
— Вали, лохмэн идейный… бутылки собирай!
Вот и все изыски искусствоведения, самое что ни есть «ню». Ну, сам повелся на заманки, на завлекалово рассчитанное, разыгранное как по нотам, и нечто же знакомое в имени этом укороченном было, какое он сразу отметил себе, впервые его услышав, но вот вспомнить до сих пор не может… Ну да, тина. Подувяз, ноги вот выдрал наконец, а не вспомнить. Мизгирь же, когда пребывал в настроении, встречал ее несколько бравурно даже: «О-о, моя Алеф!..» — и всякий раз она полыценно, до смуглого румянца, вздергивала голову… Разыграли, через Мисюков отслеживая все семейные нелады и дрязги его, женин вздор подогревая и решающий толчок приуготовив, его же слабиной воспользовавшись, тычком одним семью развалили — и вот это все выложить бы ей сейчас в личико нама-кияженное, в оскаленные зубки, когда б не стыд лоха, по их понятиям, на веревочке так долго водимого… Нет, пусть уж несказанным останется все, как бы не имевшим места быть.
Хотя почему, спросить, должно быть стыдно не обманувшим, а обманутым? Ведь и несложно же, в сущности, ввести в заблуждение даже самого умного и по первому в особенности разу, нежданно. Дурное дело нехитрое. Самой природой вещей дадена фора обману, злу, та излюбленная парадоксалистом дополнительная степень свободы — так ведь можно расценить. А вот добро огорожено всякими табу, адептами зла с толстовцами вместе ему и кулаки воспрещено иметь. Теория теорией, впрочем, а Льву-то Николаевичу в мудрости не откажешь, и на вопрос, что бы он сделал, останови его семейный экипаж в лесу разбойнички, ответствовал спроста: выломал бы дубину потолще и… Этим-то и оканчиваются обыкновенно все наши споры-разговоры о добре и зле — чтобы завтра начаться сызнова: колея сознания, невылазная.
Меж тем надо было завтра после обеда сходить к терапевту за результатом; и ни дать ни взять — пенсионер на отдыхе, трудами некими заслуженном, ходи себе по стариковским делам, никуда не спеша, воробьев корми со скамейки в сквере, на солнышко щурясь неяркое, а по вечерам хоть мемуары никому не нужные пиши… нет, книжку ту, закидушку Мизгиреву давнюю, о какой сам он даже и думать забыл — но, может, стоит вспомнить? К матери чертовой послать журналистику — опостылела, работку подыскать какую постороннюю за хлеба кусок, чтоб голова посвободней была, с тем же Новобрановым сойтись, с тусовкой их литературной, почему нет? Впрочем, литература местная, по увереньям Мизгиря, довольно квелой была, цедил через губу: «Провинциализм — это, знаете ли, диагноз… Перепевы, от сохи переплясы, лясы-балясы». Читал и он кое-кого, далеко не всех, и вправду особо не впечатлило, хотя живое и узнаваемое есть, думают ребята.
Вечером закончил перепечатывать статью для журнала, короткое письмо приложил, не особо-то рассчитывая теперь на публикацию. Вышлет завтра — и, кстати, подумает, не завести ли отношения с каким другим изданием.
Сидел на травке газона перед поликлиникой, ожидая назначенного времени, лицо солнцу позднесентябрьскому подставив, и что-то вроде умиротворения даже на душу сошло, давненько не посещавшего… И вздохнулось: ох как давно! В самом-то деле, сколько можно, по слову Поселянина, в погоне за горизонтом постромки рвать, взывать, к жизни вызывать несозревшее, торопить еще только ростками наметившееся — каким, может, не суждено развиться, мало ль их затаптывается случаем или узаконеньями мира сего. Время торопить, как и останавливать пытаться, — занятие неблагодарное как самое малое, а чаще опасное для людей, для всех; и хоть издавна это им известно и на шкуре собственной испытано, а соблазн велик. И если угораздило попасть в число соблазнившихся сих, то и жаловаться не на что и некому. Остановиться пока, оглядеться, а там, по нашей схожей с «авосем» присказке, видно будет — насколько можно это в едком чаду сгоревшей державы, в воровской сутеми безвременья.
Не странным было сейчас ощущение, какое уже приходилось испытывать: будто некий круг жизни его завершился, очередной, изжил себя, освободил от навязанного жесткого хода обстоятельств своих; и он это не только чувствовал, но словно бы даже видел теперь, отчетливо и во всем: в нежарком, как бы прищуренном и заметно клонившемся долу светиле над крышами низкорослой здесь застройки, в грубой, притомившейся траве, отжившей, прошлой уже, считай, в самом этом прошлом, недавно еще таком резком, контрастном в страстях всяких и переменчивости недоброй, а ныне повыцветшем до блеклого тона усталости, выгоревшем изнутри… Завершился, но не замкнулся сам на себя конечно же, а выводил на другой какой-то, более обширный, надеялось, пространный окоем, в каком предстояло осмыслить все не то что по-новому, нет, нового-то ничего не предвиделось, но проще и трезвей… Пораженья учат? Учат, и уж получше, сдается, чем всегда сомнительные наши победы.
Проще, да, и трезвей потому хотя бы, что положенье-то его упростилось теперь до статуса безработного, по сути — как бы постороннего всей этой растерянной и безмысленной суете полуразоренного муравейника, отчасти свободного от нее. Вот и пользуйся пока этой пусть мнимой и навряд ли долгой свободой, когда не надо, как муравьишке, что-то без разбору хватать панически и тащить, разбирая завалы рухнувших надежд и просроченных всяких намерений. Многое видней со стороны, естественные обретая размеры и значение, а это дорогого стоит порой, позволяя впрямую, а не через линзы-призмы сиюминутных предпочтений смотреть на все, разбираться без спешки и злости. Тайм-аут выдался ему; а немало таких сейчас, слышно, кто добровольно в интеллигентски брезгливый ко всему в родной сторонке аутизм впал и споро бумажки выправляет на отъезд, то ль на свои незаурядные, по самомненью, задатки рассчитывая, то ли даже на велфер будущий, мантру либеральную проборматывая: «Если за Родину надо умирать, то это не родина…» Нет, ну до чего умные шкурники пошли! Раньше как-то попроще были.