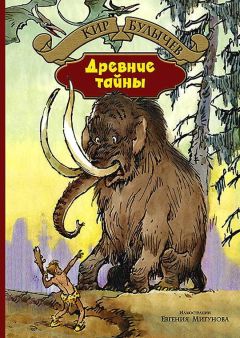Петр Киле - Сказки Золотого века
Лист с "Веткой Палестины" с посвящением А.М-ву Лермонтов оставил на столе и, загремев шпорами, весело сбежал по лестнице и вышел на улицу.
В это время Муравьев заехал к Лермонтову и оставил записку о том, что Мордвинов давно читал стихотворение на смерть Пушкина графу Бенкендорфу, и они ничего крамольного в нем не нашли.
- Этого не может быть! - Лермонтов понял, что у полиции еще нет дополнительных шестнадцати строк. Нет, это Мордвинов не ведал еще о них, а у Бенкендорфа они уже были, как и у царя, поскольку и в свете о них заговорили с возмущением.
Граф Бенкендорф, шеф корпуса жандармов и начальник III отделения, генерал-адъютант, по должности своей должен был всем вселять страх, но внешне он проявлял кротость и никогда не спешил докладывать государю о каких-либо происшествиях до того, как его величество проявит интерес со своей стороны, то есть не предугадывая его мысли и настроя по тому или иному делу. Возможно, кротость и в самом деле была в характере всесильного шефа жандармов, во всяком случае, он посетил Елизавету Алексеевну, зная ее хорошо через ее многочисленную родню, возможно, переговорил с Лермонтовым, или последнее поручил кому-то, а затем сказался больным и расследование перепоручил генералу Веймарну, о чем и доложил государю императору в докладной записке: "Я уже имел честь сообщить вашему императорскому величеству, что я послал стихотворение гусарского офицера Лермонтова генералу Веймарну, дабы он допросил этого молодого человека и содержал его при Главном штабе без права сноситься с кем-либо извне, покуда власти не решат вопрос о его дальнейшей участи, и о взятии его бумаг как здесь, так и на квартире его в Царском Селе. Вступление к этому сочинению дерзко, а конец - бесстыдное вольнодумство, более чем преступное. По словам Лермонтова, эти стихи распространяются в городе одним из его товарищей, которого он не захотел назвать".
Похоже, граф Бенкендорф либо уже докладывал лично государю по новому делу, либо посылал докладную записку, во всяком случае, теперь он точно знал мнение царя, которое формулирует от себя: "Вступление к этому стихотворению дерзко, а конец - бесстыдное вольнодумство, более чем преступное".
И царь, и шеф жандармов отдают распоряжения, как будто каждый от себя. Резолюция Николая I гласит: "Приятные стихи, нечего сказать; я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону".
Граф Бенкендорф велел генералу Веймарну учинить допрос и посадить под арест Лермонтова в здании Главного штаба; царь имеет в виду домашний арест с посещением старшего медика этого господина, чтобы удостовериться, не помешан ли он. Менее полугода назад Николай I распорядился совершенно также в отношении Чаадаева за его философическое письмо.
Разумеется, старший медик гвардейского корпуса посетил Лермонтова и освидетельствовал его психическое состояние, впрочем, речь могла идти вообще о здоровье корнета лейб-гвардии Гусарского полка, который проболел три месяца, а он был снова здоров и весел.
Между тем Раевский со службы не пришел домой ни вечером, ни на другой день.
5
21 февраля 1837 года Раевский Святослав Афанасьевич по распоряжению его непосредственного начальника и дежурного генерала Главного штаба графа Клейнмихеля был арестован и препровожден в гауптвахту в Петропавловской крепости; очевидно, он был взят под стражу в Департаменте военных поселений, где служил, и Лермонтов, подвергнутый тем же графом Клейнмихелем поначалу домашнему аресту, не знал о том. Вероятно, генерал Веймарн, не нашедший никаких подозрительных вещей в бумагах Лермонтова, показался весьма нерасторопным, и его заменили.
Взяв показания у Раевского, признавшего себя единственным распространителем стихов Лермонтова, граф Клейнмихель потребовал у Лермонтова, чтобы он назвал имя того, кто распространял его стихи, под угрозой суда и отдачи в солдаты. Он столь усердствовал, желая наказать прежде всего губернского секретаря Раевского, который постоянно проявлял непокорность. Лермонтов не очень боялся судьбы декабристов, но допрос велся дома, он боялся огорчить бабушку, да имя Раевского не могло не всплыть, - он назвал его, что легло камнем на его душу во все время следствия, суда и ссылки. Он считал себя виновником гонений на Раевского, хотя это было не так. Раевский был человек решительный, весьма самоуверенный, он привык, очевидно, покровительствовать юному поэту еще со времени его учебы в Москве в Университетском пансионе и позже в Петербурге, заводя знакомства среди литераторов, словно прокладывая тропу для его протеже.
Показания его весьма характерны, он пишет их с расчетом, чтобы умалить обобщающий смысл стихотворения Лермонтова, а также имея в виду, чтобы и поэт дал показания в том же духе. И черновик своего показания с запиской посылает камердинеру Лермонтова Андрею Ивановичу через сторожа, не совсем отдавая отчет в том, где он находится. Пакет был перехвачен и лишь усугубил вину Раевского. Он хотел, чтобы Лермонтов отвечал согласно с его показаниями, "и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже". Здесь уж заговор налицо. Между тем, если бы не перехват пакета, непокорность чиновника - это другой вопрос, по показаниям Лермонтова могло бы все кончиться ничем, во всяком случае, для Раевского. А так, хотя и не преданный военному суду, как о том хлопотал граф Клейнмихель, Раевский был переведен в Оленецкую губернию, а Лермонтов - в Нижегородский драгунский полк на Кавказе, что для него в ту пору было нечто желанное, чем ссылкой. Ведь недаром последовал за ним и Монго-Столыпин.
Лермонтов дал следующее показание - прекрасною прозою, точно дар его через трагедию Пушкина вызрел и высветлился окончательно:
"Я был еще болен, - пишет он, - когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее и ко мне, обезображенную разными прибавлениями; одни, приверженцы нашего лучшего поэта, рассказывали с живейшей печалию, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою - они говорили также, что Пушкин негодный человек, и прочее... Не имея, может быть, возможности защищать нравственную сторону его характера, никто не отвечал на эти последние обвинения.
Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого; - и врожденное чувство в душе неопытной, защищать всякого невинно осуждаемого, зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезнию раздраженных нерв. Когда я стал спрашивать, на каких основаниях так громко они восстают против убитого, - мне отвечали: вероятно, чтоб придать себе более весу, что весь высший круг общества такого же мнения. - Я удивился - надо мною смеялись. Наконец после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер; вместе с этим известием пришло другое - утешительное для сердца русского: государь император, несмотря на его прежние заблуждения, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением (как меня уверяли) высшего круга общества увеличила первого в моём воображении и очернила еще более несправедливость последнего. Я был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, богом данного защитника всем угнетенным; но тем не менее я слышал, что некоторые люди, единственно по родственным связям или вследствие искательства, принадлежащие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников, - некоторые не переставали омрачать память убитого и рассеивать разные невыгодные для него слухи. Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразил нестройное столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное, что многие ошибочно могут принять на свой счет выражения вовсе не для них назначенные. Этот опыт был первый и последний в этом роде, вредном (как и прежде мыслил и ныне мыслю) для других еще более, чем для себя. - Но если мне нет оправдания, то молодость и пылкость послужат хотя объяснением, ибо в эту минуту страсть была сильнее холодного рассудка. Прежде я писал разные мелочи, быть может еще хранящиеся у некоторых моих знакомых. Одна восточная повесть, под названием "Хаджи-Абрек", была мною помещена в "Библиотеке для чтения", а драма "Маскарад", в стихах, отданная мною на театр, не могла быть поставлена по причине (как мне сказали) слишком резких страстей и характеров и также потому, что в ней добродетель не достаточно награждена.