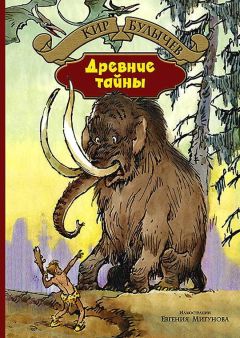Петр Киле - Сказки Золотого века
Августейшие супруги, глядя друг на друга, рассмеялись.
Положение Геккерна при императорском дворе внезапно для него и четы Нессельроде пошатнулось, а причины тому получили огласку во все европейских столицах из сообщений послов о смерти знаменитого Пушкина, поэта, царь лишь повторил слова из этих сообщений, которые перлюстрировались. К несчастью, Пушкин лишь ценою жизни своей достиг цели - учинить Геккерну бесчестие в масштабе европейском, что осуществил Николай I не ради поэта, с этим он опоздал, а ради собственного престижа.
Смерть Пушкина, вызвавшая глубокий отзвук в обществе, возбудила внимание и интерес к сочинениям поэта и при дворе, в императорской семье. На уроках дочерей по русской словесности присутствовала императрица, слушая чтение стихов Пушкина, а учителем был П.А.Плетнев, один из друзей поэта. При дворе читали и стихотворение гусарского офицера Лермонтова на смерть Пушкина, о котором говорили в свете, одни с восхищением, другие с возмущением.
- Твоя забота о семействе Пушкина, о печатании его сочинений всех радует и умиляет, - говорила императрица, чтобы что-нибудь приятное сказать мужу за вечерним чаем среди немногих доверенных лиц из молодых фрейлин и старых сановников. За столом сидела и графиня Нессельроде, мужеподобная по виду и характеру дама, державшая как мужа, так и высший свет в трепете.
Николай Павлович взглянул на нее:
- Вы, кажется, не любили Пушкина, графиня?
- О, государь! Кто же любил его? Все боялись его злого ума и языка, - отвечала Мария Дмитриевна без обиняков.
Николай Павлович переглянулся с императрицей, мол, то же самое можно сказать и про нее. Впрочем, всегда полезно иметь страшилку, которая служит твоим интересам. Пушкин, числясь по службе у графа Нессельроде, не пожелал покровительства графини, а для нее кто не друг ей, тот ее враг. Так, Геккерны, сумев приноровиться к ее нраву, сделались ее друзьями и подопечными, а Пушкин оказался в числе ее самых заклятых врагов.
В истории Геккернов вокруг Пушкина и его жены графиня Нессельроде была вдохновительницей, и Пушкин знал это. Прознал о том и Лермонтов, и камер-юнкер Николай Столыпин, вступившись за Дантеса, лишь напомнил о тех, кто стоит жадною толпой у трона. Шестнадцать дополнительных строк к стихотворению, которое уже читали по всему Петербургу, списки дошли уже до Москвы, прозвучали столь сильно, что прекрасная элегия зазвучала, как ода Пушкина "Вольность", одно из непозволительных, возмутительных стихотворений поэта. Клевреты графини оказались проворнее полиции и доставили ей стихотворение с дополнением. Молча она дожидалась, когда речь о Пушкине перейдет к автору стихотворения на его смерть, как повелось. Вообще ей казалось, что земля закачалась под ее ногами. Из-за покровительства Геккернам, какие они есть, супруги Нессельроде могли пострадать, и графиня, воспользовавшись случаем, решила перейти в наступление. Об элегии государь, казалось, не составил окончательного своего мнения, но с добавлением - это же воззвание к революции! Предупредить об опасности - это самый верный способ сохранить доверенность государя, и графиня этим воспользовалась.
- Много говорят в свете и о стихотворении на смерть Пушкина. Жуковский находит его прекрасным, - сказала императрица.
- Жуковский, должно быть, не знаком с дополнением, - вскинулась графиня Нессельроде; она достала лист и подала государю. - Ваше императорское величество, это воззвание к революции! - заявила графиня с обычной резкостью ее суждений.
- Это вы написали здесь?
- Да, чтобы другие этого не сделали.
Николай Павлович читает вслух последние выделенные строки, тут же снижая голос и скороговоркой: "Свободы, Гения и Славы палачи!.. Пред вами суд и правда - всё молчи!.." Ну, вот, еще говорят, этот, чего доброго, заменит Пушкина!
В это время из гостиной, где собирались на музыкальный вечер у императрицы, разнеслись звуки рояля, торжественные, патетические, словно реквием по Пушкину, - то играл капельмейстер Придворной певческой капеллы Михаил Иванович Глинка, которого приглашали теперь играть и петь романсы в Аничков дворец.
4
Успех стихотворения "Смерть поэта" окрылил молодого поэта, он ожил и поднялся. Между тем стало ясно, что если стихотворение в его первоначальном виде не обратило внимания полиции, доходили даже слухи, что оно понравилось и при дворе, с добавлением последних шестнадцати строк все могло измениться: неопубликованное, стало быть, не одобренное цензурой, произведение распространяется в списках, - это уже крамола. Прежде всего в Департаменте военных поселений, где служил Раевский и куда он постоянно приносил стихи Лермонтова, читал драму "Маскарад", запрещенную цензурным комитетом к постановке, косо начали поглядывать на чиновника, который и так не отличался послушанием, а терпели его исключительно из-за его ума и знаний, необходимых для разрешения запутанных дел.
Друзья предполагали с самого начала возможность гонений за распространение стихов в списках, но сколько списков они могли сделать? Списки множились в обществе уже независимо от них. Это был успех, неожиданный и желанный, стихи выражали не просто переживания поэта за последние месяцы и дни, как поначалу, почти что в полубреду, у него вылилось в ряд разрозненных строф, они оказались созвучны умонастроению общества, исполненному не только грусти и печали, но и гнева. Лермонтов ощутил в мучительной досаде, что стихотворение не кончено: "... и на устах его печать", - это не концовка, здесь лишь непосредственная фиксация смерти поэта. Затем последовало прощание с Пушкиным в его маленькой скромной квартире множества народа, отпевание в Конюшенной церкви с тайным выносом тела поэта из его дома ночью, без факелов, военный парад на Дворцовой площади, вместо общенационального траура, когда тело Пушкина лежало в гробу в подвале церкви, с вывозом его тела опять-таки тайно к месту захоронения во Святогорском монастыре. И голоса сочувствия по адресу убийцы гениального поэта в кругах, близких ко двору. Концовка стихотворения была подсказана самой действительностью.
Этого власть не потерпит, но не сказать всю правду нельзя было. Гонений Лермонтов не боялся, но забеспокоилась бабушка и упросила внука пойти к Андрею Николаевичу Муравьеву, чтобы тот у двоюродного брата Мордвинова, начальника канцелярии III отделения, разузнал, что и как, словом, похлопотал за него. Впрочем, о том она сама толковала Муравьеву, и он обещал справиться. Посетить Муравьева все равно надо было, отдать визит, поднявшись на ноги.
Лермонтов не застал дома хозяина, но он должен был вскоре придти; он остался его ждать. В гостиной, в кабинете Андрея Николаевича, особенно в образной, украшенной пальмами, вывезенными из святых мест, все дышало таинственной тишиной и светом не церкви, но атмосферой веры и мифа. Он не вспомнил в данную минуту стихотворение Пушкина "Цветок".
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя...
Но одна и та же поэтическая мысль, уже нашедшая свое выражение у Пушкина, нередко вспыхивала и у него, но с иным содержанием, с иным мироощущением. И эта мысль уже приходила ему в голову в образной Муравьева в нескольких строфах, вновь пришедших теперь; Лермонтов сел было писать записку Муравьеву, который в это время как раз был у Мордвинова на службе, но потекли стихи. Он набросал их не спеша, но сразу и без помарок и перечел вслух:
Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?
У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?
Поэт задумался и продолжал:
Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занес?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих слез?
Иль, божьей рати лучший воин,
Он был, с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?
Заботой тайною хранима,
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!
Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой...
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.
Лермонтов вспомнил стихотворение "Цветок" и улыбнулся. Как музыкант, он сымпровизировал вариации на темы Пушкина, его могут даже обвинить в подражании или в напрасном соперничестве, но разве не ясно, что "Цветок" и "Ветка Палестины" исполенны совершенно иного содержания: там поэтическая мысль о жизни, здесь - о религиозной вере, тоже увядающей, но сохраняющей свой цвет и благоухание поэзии.