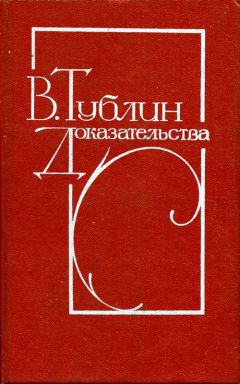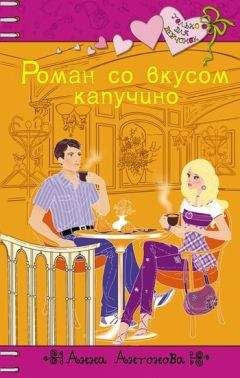Валентин Тублин - Покидая Эдем
Она сделала это совершенно просто — так же просто, как сказала на первых же минутах первого урока, глядя ему в лицо глазами, которые только потом станут излучать невольную двойственность, будучи одновременно насмешливыми и недоверчивыми. Она сказала: «Тебя как зовут? Костя? А меня — Эля»… И так же просто она сказала потом: «А пошли ко мне в гости». Да, так же просто она пересекла вестибюль и поднялась по лестнице, залитой волшебным цветным светом; поднялась и, привстав на цыпочки, дотянулась до белой кнопки звонка. И позвонила.
И тут же дверь открылась, словно женщина, которая стояла на пороге, высокая женщина с тонким лицом и лучистыми глазами, сказавшая низким, мягким голосом: «Вот и наши дети», — словно эта женщина давно стояла за дверью, ожидая, когда раздастся звонок, чтобы сразу, не теряя ни секунды, открыть им. И вот теперь она была рада, что вышло все так, как и должно было: она улыбалась, стоя на пороге, а затем посторонилась, пропуская их, и они вошли…
Так что ему не надо было даже закрывать глаза или открывать их снова, потому что вне зависимости от времени он видел одну и ту же картину, все ту же все последующие годы. И когда бы он ни переступал порог и кто бы ни открывал эту дверь — та ли женщина, что открывала ее в первый раз, или другая, которая открывала ее годы спустя, или высокий бритоголовый мужчина, или сама Эля, — за дверью все оставалось без изменения. Все те же высокие стены, уходящие к потолку книжными полками, все те же переплеты, блестевшие потускневшей позолотой нерусских букв, выдавленных на толстой коричневой коже. Всюду книги, книги и книги, и еще книги, и еще. И мебель — так не похожая на то, что он где‑либо мог видеть, — красного и розового дерева и золотистой карельской березы, с перламутровыми инкрустациями и бронзовыми позолоченными накладками, с ножками в виде львиных лап. И огромная, переливающаяся блестками люстра, сама по себе похожая на диковинный цветок, и фарфор, стоящий в узких застекленных шкафах. Тогда он и знать не мог, узнает ли он когда‑нибудь такие слова, как «веджвуд», «севр» или «мейсен», так же как и многое другое.
Например, картины.
Их тоже было множество — на стенах и в простенках, и вообще где придется, но что же мог он тогда сказать, например, о том невзрачном на первый взгляд наброске пером, который висел в одной из комнат в простенке между двумя стеклянными шкафами с фарфором (датским, как мог бы сказать он сейчас) и изображал несколькими небрежными штрихами человека, опиравшегося на палку. Просто человека — он стоял посреди дороги и, перед тем как идти дальше, обернулся, чтобы в последний, может, раз увидеть то, что оставляет. Только посмотреть, проститься, запомнить — а потом повернуться и уйти. Но куда? Этого нельзя было понять, этого не знал никто, кроме самого человека, а он молчал.
Да, вот такой это был рисунок, и он видел его много раз, столько, сколько он бывал в этом доме, и долгие годы он ничего не говорил ему или почти ничего, как ничего не говорила и дата — 1808 год — и косая, падающая книзу подпись «Goya». Просто Зыкину нравился сам человек, нравилось смотреть на него и думать, о чем же он думает. Вот он обернулся и смотрит на то, что покидает, быть может, навсегда. И что‑то такое было в этом лице, что всегда задевало Зыкина и притягивало.
Но что? Горечь? Печаль? Грусть? Он не знал, только он любил рассматривать это чудо. Он закрывал один глаз, оставляя маленькую щелочку, и наводил взгляд на рисунок так, чтобы видеть один только штрих. И видел его, видел четко — черный чернильный штрих, тоненькая полосочка и больше ничего. Здесь никакого чуда не было, это было проще простого, такую полосочку мог бы провести каждый, и он сам, были бы чернила и перо. И еще один штрих был рядом, такой же четкий и простой, и в нем тоже не было чуда, а рядом еще и еще. И еще, и еще — и так можно было разглядывать до бесконечности, но стоило открыть глаза, как штрихи исчезали и появлялся человек с усталым и горьким выражением лица — вот он стоит и смотрит… И от этого, от неизменности волшебства, захватывало дух, и восторг нисколько не уменьшился оттого, что в конце концов он узнал, что означает подпись под рисунком, и тем самым узнал и цену своему инстинктивному поначалу восхищению.
Что же он мог испытывать, маленький мальчик по имени Костя Зыкин, кроме зависти, пускай не называемой им завистью, кроме робости, не осознанной до конца, и кроме любви? Да, это и было в нем, но ведь это было только началом, самым началом испытания, которому подвергла его жизнь. Это были трудности, связанные не с исполнением еще каких‑то требований, а лишь с отысканием дороги, идя по которой можно было добрести до места, где свершаются подвиги, а раз сами поиски дороги так тяжелы, что же представляет сама дорога? Так не махнуть ли на все рукой, тем более что никто не неволит тебя и никто не упрекнет и награда не объявлена?
Уходи, убегай, уноси ноги скорее, пока не поздно.
Но он не уходит. Он и хотел бы, да не может. Околдован он, что ли?
Околдован. Он уже погиб, погиб навсегда, ему уже нет спасения. Он обречен на служение, на службу до конца своих дней, а если он хочет остаться в живых, он должен доказать, что ничто не сломит его, даже то, что другие, пусть даже их и след простыл, уже получили эту награду. Он должен доказать, что в силах вынести и это, и многое другое, иными словами — все. Да, он уже отравлен. Ему бежать бы стремглав, не оборачиваясь, а он сидит и ждет. Заколдованное пространство перед ним в десяти метрах, снег наметает вокруг него чистые белые полоски. Он ведь сделал, совершил все, что мог, все, о чем мечтал, все подвиги, что были ему под силу, теперь ему только и остается терпеть и ждать, к чему это привело и привело ли к чему‑то. Ему не холодно, вовсе нет. Вполне возможно, что он вообще не замечает температуры. Что нужно ему, чтобы отдаться судьбе? Внешний повод? Внутренний толчок?
А может быть, ему уже ничего не нужно?
Ничего. Он просто свалился Эле под ноги, когда она проходила по набережной мимо занесенных снегом каменных чудищ. Потому что пришел, пробил его час, которого он дожидался. Он дожидался его терпеливо. Его награда была в том, чтобы увидеть ее, последний раз — так последний. И когда этот час пришел, он не оплошал, нет, единственное, что он мог, что он хотел сделать, это свалиться. И он свалился.
Ничего особенного ему не пришлось для этого делать, и никаких усилий не потребовалось, когда он скользнул с гранитного парапета. Да он и не в состоянии был сделать что‑либо иное; ему и надо было только ждать, только дождаться своего часа, сидя так, как он сидел, и там, где он сидел, то есть сидеть на гранитном парапете, привалившись боком к гранитному страшилищу Ши‑Цзы, вывезенному, как это явствовало из надписи на постаменте, генералом‑от‑инфантерии Гродековым из города Гирина в Маньчжурии в 1906 году.
И он дождался.
Точнее, у него хватило терпения ждать и не падать, даже когда он уже и не понимал совсем, где он и что с ним, когда сознание то появлялось, то исчезало — словно лица прохожих в окне, когда ты смотришь на улицу из своей комнаты. Жар волнами приливал откуда‑то снизу, прокатывался по телу, и даже когда он не сгребал уже снег и не ел его, сначала сжав в руке, он знал: надо ждать.
Дождался. И тут он упал, с облегчением, с чувством, так сказать, выполненного долга; что‑то похожее на часовой механизм сидело у него внутри, удерживая от преждевременного падения, и не подвело, сработало так, как надо, в ту самую секунду, когда послышались почти неслышные по снегу шаги. У него едва‑едва достало сил, чтобы разлепить веки, и он соскользнул вперед и вниз, прямо к ее ногам. Только тогда понял он, как заждался и устал, и сил не оставалось больше совсем. Все‑таки он успел сказать громко: «Эля!» Но это и было уже все, и сразу же вслед за этим ему стало хорошо, как никогда.
Зыкин никогда не узнал, что было после его падения и после того, как он сказал «Эля!» Подумала ли она сама, вздрогнув и подняв руки к лицу: «Господи, что же это?» — или, наоборот, за секунду до этого сказала себе: «Посмотри, ведь этот человек может замерзнуть…» А может, она только раскрыла рот, чтобы сказать это, или просто подумала: «Да это просто еще один пьяница». Все это навсегда осталось для Зыкина тайной. Он не помнил, как он потом ковылял и спотыкался, пока шел те десять или двадцать шагов, что нужно ему было пройти, и то, как он сел вдруг на ступеньки за несколько шагов до той, последней двери и сказал, а потом и повторил еще несколько раз хриплым голосом: «Позвоните Блинову, позвоните, пожалуйста, Блинову», — и стал копошиться, пытаясь найти записную книжку, но он не помнил уже, как нашел ее, потому что тут — и уже надолго — все пропало.
Так что когда Блинов вернется в свой отдел, его будут ждать шесть цифр телефона, по которому он должен позвонить, не зная, что повлечет за собою этот звонок и каким образом этот звонок будет связан со всей его жизнью, не только последующей, но и прошедшей. Он даже не дошел еще до кабинета главного инженера института, чья фамилия была Зайцовский, до кабинета, расположенного несколькими этажами ниже, так что, если не пользоваться лифтом, было время обдумать предстоявший ему разговор, что он и делал, пока шел по длинному коридору до лестницы и, дойдя, не спеша потрусил себе вниз. И все это время он думал о простых вещах: о том, как начнется сейчас разговор у Зайцовского (и тут он представил даже, что он уже вошел в кабинет, и маленький, со сморщенным личиком Зайцовский, хмуро глядя из‑под своих кустиковых бровей, говорит ему скрипучим голосом: «Я вызвал вас, Николай Николаевич, для того, чтобы…»), и что скажет на самом деле Зайцовский, а что ответит он, Блинов, и что тут скажет Кузьмин, и так далее, и это все были сами по себе мысли о вещах простых, и они образовали как бы верхнее течение. Потому что одновременно с этим расположились другие мысли — о том, кто же это все‑таки звонил ему в ту минуту, когда он выходил уже в коридор, кто из его названых сестер это был, Тамара или Таня, и чем вызван был такой звонок, потому что он даже вспомнить не мог, когда они — любая из них — звонили ему в последний раз. И если это была старшая сестра, Тамара, то он видел, как она подходит к телефону, который, надо полагать, с тех пор, как он работал там, на фабрике, все еще висит за дверью цеха, чтобы можно было хоть что‑нибудь разобрать в шуме, который производят ткацкие станки, и он даже услышал это непрерывное и мерное клацанье, с которым машины пережевывают, втягивают в себя бесконечные километры нитей; он услышал этот звук и втянул запах масла и тепла, идущий от машин, и что‑то дрогнуло в нем, что‑то такое, о чем он давно забыл. А потом он увидел Тамару, ее лицо с поджатыми губами, затвердевшее лицо, которое тогда, когда он ходил между машин, вдыхая запах масла, не было еще затвердевшим, а было нежным, розовым и округлым и продолжало оставаться таким до тех пор, пока она не вышла замуж за того типа, который уехал потом на курсы повышения квалификации на Урал и там спутался с какой‑то местной… Тогда‑то и затвердело ее лицо — не только потому, что она не могла простить мужу, что он это сделал, но и потому, что она, как ей казалось, допустила это. Вот с того самого момента ее лицо и затвердело и вся она словно покрылась броней, сквозь которую даже он не мог пробиться, — а уж если она кого‑нибудь и любила еще после этой истории, то это его.