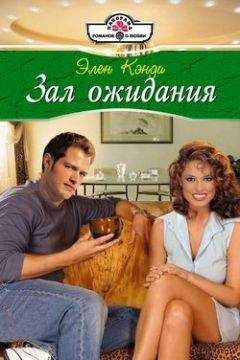Георгий Осипов - Конец января в Карфагене
На воздухе не жарко, градусов восемнадцать, однако из-за скованности, почти растительной недвижимости, призрак июльского зноя, едкой духоты, обретает власть над действительностью.
Самойлову мерещатся морщины на лбу, хотя их там нет, и не может быть в таком возрасте. Пряди выпадающих волос, так и не успевших отрасти, чтобы хоть как-то… Ему кажется, что жизнь заело в одном месте, и без конца повторяется одна пружинистая фраза, один выебон гитары с саксом. Самое странное, что он к этому привык. Даже подпевает в унисон. Но еще страннее, между прочим, что так оно потом и оказалось на самом деле: диск заедал, и секунд сорок записи сожрали полтора такта Can’t You Hear Me Knockin’.
Темнеть по-настоящему начнет после семи. Короленко, держа в кулаке сигарету, глаз не сводил со все той же розетки на столбе: один гвоздь — в одно отверстие, другой — в другое, а сверху, таким вот образом, перпендикулярно мы кладем третий гвоздь. Бесподобное будет зрелище… Замечтавшись, он разжал пальцы, и вместо гвоздя уронил под ноги чинарик. Искры сверкнули, рассыпались рубиновым цветом. Стемнело.
«Взвились вымпелы строек ударных, там, где бой ураганный прошел…» Агитационные щиты, изображающие историю комсомола с перечислением наград, служили неплохой ширмой для любителей выпить на свежем воздухе. Короленко уверял, точнее — добивался, чтобы ему поверили как немецкому перебежчику (Гитлер стягивает войска и т. п.), будто поздно вечером здесь «сношаются». Ему вторил жирный Флиппер, которого сегодня тоже вывезли на дачу. Если Флиппера спрашивали «Кто именно?» — он не моргнув глазом отвечал всегда одинаково: «Влюбленные».
Удостовериться, что они говорят правду, Самойлов никак не мог, потому что поздно вечером вертел свой приемник, с жадностью отслушивая и запоминая названия групп, имена солистов, фрагменты мелодий, какие только можно поймать в эфире.
— Вертел свой приемник… — усмехнулся Самойлов и неожиданно для себя, с чувством превосходства уточнил: — А не что-нибудь другое.
Правда, он тотчас покраснел, затем несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, разгоняя бесполезные и назойливые мысли. Ему показалось, что все вышеперечисленные подробности, включая «вымпелы строек», он не заучил поневоле, от нечего делать, а был вынужден из последних сил выдумывать сам, как будто пишет школьное сочинение.
За балконной дверью у Вадюши свет не горел. Видимо он перебрался к себе в комнату с красивейшим полукруглым балконом, где могли бы танцевать пары. В квартире этого гада почему-то два балкона. Интересно знать, за какие заслуги?
Пора домой! — спохватился Самойлов. Что я здесь сижу? Какой сегодня день — суббота? Суббота. Так бы и проворонил «Музыку для танцев». Он прижал к носу левую ладонь — пальцы почти не пахнут никотином. Хорошо.
Алкоголики не заставили себя долго ждать. Один из них — человек с «Радиоприбора» по фамилии Мещанинов, с бакенбардами под Хампердинка, негромко, но назидательно втолковывал Короленке: «Водку… Именно водку лучше всего закусить сочным яблочком», — поставив на столик для кинопроектора ногу в большущем немодном башмаке.
Штаны на молнии достались Самойлову и еще половине города гораздо раньше, чем он ожидал. Пролетели три летних месяца споров, анекдотов и киносеансов. Зашуршал болоньей и опавшей листвою сентябрь. Фигуры изящных девочек стали еще изящнее в осенних нарядах. То ли он сам так подумал, то ли опять где-то подцепил эту мысль. Самойлов не разбирался. Осенними днями он начал выходить на угол проспекта и, стоя под киоском, присматриваться к прохожим, больше внимания обращая уже на красивые, а не смешные черты женских лиц. Он очень надеялся, что его мысли никто не читает.
Однажды, в самом конце сентября, Самойлов увидел первую в своей жизни непраздничную толпу советских людей — очередь. Сперва он заметил лишь ее прирастающий к трамвайной остановке хвост. Потом он обратил внимание на синие свертки в руках бодро шагающих мимо него пешеходов. В «Доме Одежды» с черного хода «выбросили» Milton’s.
Май, 2009
ТАЛИСМАН
Мой транзистор давно на помойке, если только я не забыл его туда вынести. Если забыл, значит, он до сих пор валяется где-то здесь в кладовке, но я его больше не слушаю. Последняя новость, дошедшая до меня по радио, была достаточно печальной, чтобы стать поводом для запоя, короткого, как полеты первых космонавтов.
Солнечным зимним днем, успев надышаться холодным воздухом, я вошел в дом, включил приемник, и оттуда прозвучали примерно такие слова:
«… Тина пригласила его в Лондон выступить на своем концерте, но он уже в самолете так налегал на Jack Daniel’s, что петь не смог…»
Затем женский голос пояснил: «Чарльз Шаар Мюррей говорил о Вильсоне Пиккетте, скончавшемся…»
Значит, это был некролог, а заодно и повод «налечь» если не на Jack Daniel’s (мы — не в самолете, и в Лондоне никто нас с песнями не ждет), то на что-либо попроще. Главное — чтобы в супермаркете не разобрали херсонские томаты.
«Люблю поговорить со старыми людьми, — вздыхал Сермяга, — через них постоянно узнаешь что-нибудь уникальное».
Он и вправду не пренебрегал возможностью пообщаться со стариком или старушкой, будь то в пригородном автобусе или в больничной очереди. Добытую у них информацию Сермяга обрабатывал как заправский журналист-иностранец — в самом злопыхательском духе, и без стеснения отравлял ею и настроение, и алкогольный кайф своих податливых собутыльников.
В сермягиных сюжетах соседствовали «батюшка-царь» и «фюрер-освободитель» рядом с Троцким, который, между прочим, был обалденный оратор; блядь-нахуй-блядь, бабушка одного человека говорит, что никогда не слышала, чтобы человек вот так выступал без бумажки, современным ловить нечего…
А я, наоборот, годам к тринадцати умудрился рассориться практически со всеми — не то что старыми, но и просто «пожилыми» людьми. Зато вокруг меня появилось несколько отщепенцев-недорослей старшего, чем я, возраста. Самым красочным и одаренным среди них был, конечно, Стоунз. Не знаю, как выступал Троцкий, но для меня оратором номер один был человек с лицом английского политика в серой тужурке от школьной формы, которая приросла к его короткому туловищу и оставалась впору лет до двадцати семи. А главное — меня полностью устраивало и потешало почти все, что он говорит и делает. Все его выдумки, козни, кривляния и хобби.
Несмотря на детскость черт, у Стоунза действительно была апоплексическая физиономия пьяницы-судьи, задумчиво-недовольная, с язвительной репликой на губе. Сходство со старинными портретами затмевало более лестное сходство с «Брианчиком», то есть Брайеном Джонсом, о котором к моменту нашего знакомства малочисленные поклонники Стоунзова поколения успели позабыть, а большинству работяг было вообще неизвестно, кто это такой. Они и своих-то любимых солистов брезговали запоминать. До изобретения Пугачевой, по-моему, всем вокруг было наплевать, кто там для них поет. Известному артисту во время выступления в Анапе плевал в лицо шариками-драже сопливый Азизян. Хамили даже Кобзону: «Та давай пой!», когда у него на концерте в запорожском Цирке отказал микрофон. Выкрики антисемитского толка были нормой в адрес исполнителей соответствующей национальности.
Какой-то инстинкт самосохранения подсказывал обывателю, что с появлением доморощенных «звезд» жизнь простого человека сделается совсем невыносимой, а главное — непредсказуемой. Кумиры были разве что у детей, но поскольку куклу, скажем, Гойки Митича или Бубы Кастороского было невозможно достать даже по блату, дети (за исключением детей дипломатов или журналистов) как-то особо и не психовали по этому поводу.
Стоунз тоже полагал, что местные артисты только действуют на нервы своим пением и киноролями. Впрочем, он так рассуждал лишь до тех пор, пока собеседник сопротивлялся и выдвигал контрагрументы:
«Ты шо?! А Высоцкий? А Светличная?!»
Добившись взаимопонимания, Стоунз тотчас менял свое отношение к «гордостям» советской эстрады и экрана. Даже Сличенко с Утесовым из «уродов» на глазах превращались в «любимых певцов моего бати», а «батя» состоял, между прочим, в первой «команде космонавтов», и так далее…
— Хорошо все-таки сыграл Вельяминов, — однажды Стоунз возомнил, что этой фразой доконает меня настолько, что сможет от меня избавиться навсегда, предварительно выманив у меня все, о чем мечтал, от чего прошибал его пот под наглухо застегнутой школьной формой.
Он ошибался. Напрасно он думал, что смутит меня, неумело изображая солидарность со вкусовщиной «старых людей». Мой ответ был сдержанным:
— Да, неплохо. Вельяминов — профессионал.
Антисоветской истерики не последовало. Я от него не отстал.