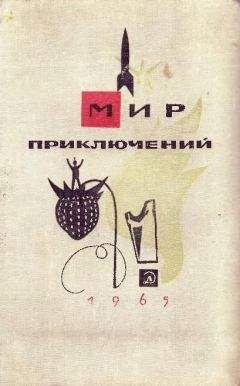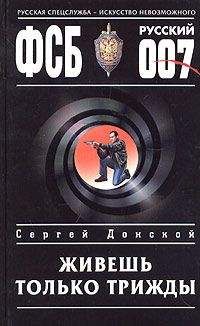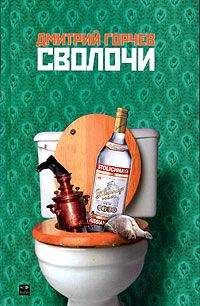Дмитрий Долинин - Здесь, под небом чужим
С тех пор мы с Алиной не расставались, пока она не оставила меня сама.
Нашу выставку разорили через три дня. Куда делись фотографии – неизвестно. Слава богу, остались негативы. Афоню уволили, чему он, кажется, был рад. Вскоре он сумел прикинуться евреем и убыл в Израиль. Сэм продолжал спокойно трудиться в своей котельной, ибо что взять с кочегара? Меня вызвал к себе директор нашего пионерского заведения, что-то мычал, блеял, а потом сказал: напишу в райком и сам знаешь, куда, будто провел с тобой разъяснительную работу и ты все осознал, с тебя бутылка. Я его поблагодарил.
Вот такие случились воспоминания. Но ничем они мне не помогли. Слишком разные времена – четырнадцатый, пятнадцатый годы и начало семидесятых хоть и одного, но сумасшедшего двадцатого века. Нравы совершенно разные.
Пошел я бродить по городу с фотоаппаратом. С небес валил крупный влажный снег. Мне всегда казалось, что дни с ярко выраженными природными состояниями – лучшее время для пейзажного фотографа, и до темноты я снял около десятка приличных кадров, истратив всего две пленки. К вечеру в голове моей что-то забрезжило.
Вспомнил еще раз, как Алина сказала, перейдя вдруг на «ты», «набрался», «пошли» и повела меня пьяного танцевать. Возможно, именно то, что повела она, и есть ключ ко всему.
Решил, что сперва попробую смонтировать в нужной последовательности отрывки из дневника доктора Л. с кусками из писем и записей Принцессы.
Доктор Лобачев1915, 25 июля. Молодой доктор Щепкин все напевает из «Вампуки»: «мы бежим, бежим, бежим», но дело начал понимать, и, кажется, кровь, грязь и сукровица перестали на него действовать, а ведь сперва он напоминал мне нервную курсистку. На ампутации искалеченной ноги я приказал ему держать ее, сам же перепиливал кость, а когда нога отделилась от остального солдатского тела и оказалась всем своим весом у него в руках, он пошатнулся, упал, потерял сознание, однако ногу из рук не выпустил. Теперь оперирует решительно и, вероятно, успешно меня заменит.
Я еду в Петербург за новым назначением, пишу в поезде. Три недели тому вышел приказ об отступлении, стали отправлять транспорт раненых на телегах в тыл, двое-трое на одной. Дороги тряские, грязь несосветимая, дождь. Транспорт проползает по паре верст за час. Я на моторе поехал вперед. Он то и дело вязнет, толкаем, вытаскиваем, опять прыгает, трясется. Получается полезная для внутренностей гимнастика. Это здоровому, а каково раненым, на двуколках и телегах? От такой тряски самые прос тые раны портятся. По сторонам дороги – конские трупы с раздутыми животами, на них вороны, как гербы имперские. Наконец добрались. Какое-то местечко, пустая школа, места там мало. Во дворе устанавливаем шатры. Топчанов не хватает. Земля влажная. Ломаем заборы, устилаем досками грунт внутри шатров. Набиваем матрасы соломой. Откуда солома – не знаю, наши солдаты, наверное, кого-то грабят, забирают солому. Хорошо, раненых довезли сюда только через сутки. Мы успели установить всё, даже аптечный шатер. Операционная, слава Богу, под крышей. Подвезли электростанцию на автомобиле, теперь есть свет. Перед операциями нужно вымыться. Где? Ну, нагрели несколько ведер воды, кое-как помылся. Начал оперировать, несколько суток не отходя резал и кромсал, 10–12 операций в день. Многие раненые оглушены, ничего не говорят, сидят, неподвижно вытаращив глаза. Только все кашляют, все простужены, дожди льют весь месяц. Один вдруг заговорил, пробормотал что-то вроде: «Я ему: не выглядывай без дела, а он сунулся. Ему голову раскололо, татарчонка всего в клочья разорвало, а меня вот только чуть помяло».
После какой-то операции глотнул мерзкого спирта, вышел за ворота покурить. Шагает с позиций на отдых пехотный полк. Солнце садится. Полк поднимается на холм, за холмом – закат, красный, яркий. Солдаты – черные силуэты, штыки торчат.
И все кашляют. Непрерывный кашель. Как песня строевая. Лечить их нужно, отправить почти всех в лазарет. А кто останется в полку? И вот, значит, сиди в окопах больным, стынь, мокни, пока хватает сил, а потом будешь калекою на всю жизнь, если выживешь. И в этом военная логика: коли людей бросают под пули, под снаряды, то на болезнь наплевать. Мерка у генералов одна – годен ли еще человек в дело, шевелится, и ладно, а дальше им все равно. И у врачей от привычки создается такой же взгляд, врач перестает быть врачом и смотрит на пациента с точки зрения его дальнейшей пригодности к «делу». А я, кажется, еще держусь, но могу скоро сдаться, нет сил спорить с военными. Так что решение о переводе в стационар, в тыл, очень кстати.
Документ № 45
(фотокопия страницы типографского текста)
…полные сборы в Политехническом музее, и, что бы там академики ни скулили, поэт несомненный и, при немалой жеманности и безвкусии, конечно, талантливый. Прямо из будуара, «где под пудрой молитвенник, а под ним Поль-де-Кок», он вышел на эстраду, стал во фрунт и так через носоглотку, при всем честном народе завернул:
Когда отечество в огне
И нет воды – лей кровь, как воду…
Благословение народу!
Благословение войне!
На сей раз это была дань времени, моменту, медный пятачок в кружку на лазарет. Но аппетит приходит во время еды, и, как только на фронте стало совсем плохо, неунывающий Игорь быстро решил, что пришло время героических средств. Поклонился безумствовавшим психопаткам и так и бабахнул:
Наступит день и час таинственный —
Растопит солнце снег долин…
Тогда, ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!
После подобного манифеста о чем беспокоиться?
В Эрмитаже – оливье, на Трубной площади, в белом колонном зале – банкеты за банкетами. В отдельных кабинетах интендантские дамы, земгусары в полной походной форме, всю ночь звенят цыганские гитары; аршинные стерляди, расстегаи, рябчики на канапе, под собственным наблюдением эрмитажного метрдотеля, знаменитого Мариуса; зернистая икра в серебряных ведерках, покрытых морозным инеем; дорогое шампанское прямо из Реймса, из героической Франции; наполеоновский коньяк, засмоленный черным сургучом…
Доктор Лобачев1915, 17 сентября. Опять поезд. Еду в Г. Назначен начальником госпиталя. В Питере ничего не записывал, не до того было. Всё мундирные присутственные места да склоки с Натальей. Пополнела она в грудях и заднице, а матчиш все отплясывает. Носится со своим жеманным бароном по кабакам декадентским. Стишки сочиняет. Не хотел я жениться, да вот мамашу с папашей послушался по молодой глупости и получил жену из легкого десятка. Но развод уже грядет. Консисторский ответ, говорят, через месяц поспеет, и мы с ней будем свободны друг от друга. Хорошо, детей не случилось. Именно это обстоятельство помогает добиться развода.
В Петербурге о войне не говорят или говорят цинично, как о деле, которое не стоит обсуждать, потому что ясна его несостоятельность. Рассуждают о двух Николаях. Один не умел воевать, так теперь другой взялся. А он что – Бонапарт, хоть император? Или, напротив, – Кутузов? Сплетничают, что будто бы это Гришка Распутин убедил царя взять командование, много и грязно несут всякую чушь: германские шпионы, императрица, предательство. Нет дров, а зима на носу, и с продовольствием затруднения. Исчезла мелкая монета, трамваи ходят все реже и реже. Старый извозчик вдруг сказал: «Что же будет-то? Ведь невыносительно!» Одно слово – гниль. Черт с ними, тошнит.
Я получил рентгеновский аппарат, правда, не новый, а где взять новый, коли с Германией воюем? Аппарат для стационара неудобный, слабосильный, предназначен для передвижения в автомобиле, то есть – для полевых лазаретов. Только вот на фронте я таких не видывал, а ведь их место там, и нужда в них огромная. Ну, вытащу аппарат из авто, поставлю под крышу. Зато останется автомобиль для транспорта раненых.
Еду в отдельном купе мягкого вагона, три места занимают ящики с хрупкой аппаратурой. В мирное время путешествие мое заняло бы часов двенадцать-пятнадцать, а теперь, говорят, будем тащиться не менее полутора суток. В вагоне третьего класса едет Иван Михайлов, мой шофер, человек для меня новый и неизвестный. Знаю о нем только, что он, невзирая на возраст (тридцать один год), опытный механик с завода Лесснера и имеет обширный опыт в автомобильном деле. Недавно его призвали в армию, определили в автомобильную роту и присвоили звание унтер-офицера. Невысок ростом, круглолиц, рыж, широкоплеч, коротконог, а ноги колесом. В детстве – рахит. Выглядит совсем мальчишкой. Более двадцати лет ему не дашь. Выехали мы вечером, а утром я послал нашего кондуктора за Михайловым, чтобы вместе с ним попить чаю да и постараться повыведать, что он за человек. Михайлов явился и отрапортовал:
– Ваше благородие, унтер-офицер Михайлов прибыл по вашему приказанию.
– Здравствуйте, Иван Иванович, – сказал я. – Зовите меня по имени – Антон Степанович. Никаких благородий. Я не военный, а доктор. Присаживайтесь.