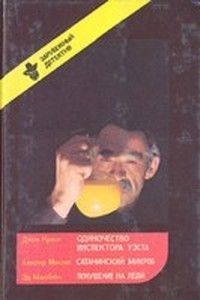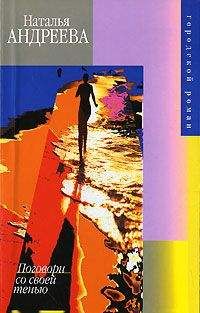Юрий Дружков - Кто по тебе плачет
Закрепив конец провода на раме окна, я скинул медный моток вниз и пошел с ним к нашему складу, разматывая на ходу мою самолетную антенну. Длина ее получилась метров сто пятьдесят. Очень сильное, по моим понятиям, приемное устройство. Кажется, воткни в ухо, и сами собой станут слышны дальние грозовые раскаты, побегут искры по всему телу.
Но приемники, такие великолепные современные приемники, в черном лаке, в наборе матовых клавиш, остались глухи ко всем попыткам оживить их… Помню, как звучало, как умеет звучать пространство. Резкие, нежные, веселые, трагические земные голоса, перебивая, заглушая один другого, спешили высказать всем и каждому свои волнения, мысли, надежды, планы, поиски, дела. Все они были рядом в гуле приближенных событий, миллионы живых невидимых лиц и голосов. Отдаленные расстоянием, все они были не одиноки. А теперь я не слышу их, вижу их. Немая физическая глухота… Не заметил, как начал тереть уши. Боль от глухоты стучала, давила виски.
Я соединил антенну с одним приемником, с другим. Провод шел через окно в самое небо, невероятно глухое небо. Ничего не менялось… Нет, менялось ее лицо. И смотреть на него было грустно.
— Господи, я с ума сойду, — не выдержала она.
— Мы с тобой договорились…
— Но ведь я не реву!
— Не вышло на этот раз, выйдет потом.
— Когда потом?
— Бывает, в июне станция не ловится, в декабре слышно.
— Я не хочу декабря, не хочу зимы, я не могу!
Вот и верь после этого женщинам. Она заплакала, уронив голову на руки. Я стоял, не двигаясь. Онемел, как эти чертовы приемники. Ну что мне сказать ей? Надо пойти сворачивать медяшку, забираться на башню, скручивать. От грозы. Нет никаких сил, нет желания, нет воли, одна усталость.
— Миленький, хороший, уйдем отсюда куда-нибудь.
— Через лес?
Ответа не было.
— Значит, самим добровольно сбежать от людей?… Они сюда придут, — сказал я, всем нутром ощутив на миг, что я не верю своим словам.
* * *Никогда не видел таких страшных снов, как этой ночью. Никогда.
Знаю: передам сумбурные виденья мои бумаге — она исцелит меня, избавит хотя бы на сегодня от возвращения к ним. Давно заметил: равнодушная бумага утешает… А рука моя не тверда, будто чужая, разбегаются нервно буквы…
Ясным солнечным невыразимо спокойным и добрым утром объявили в городе воздушную тревогу. Я схватил мальчика и выпрыгнул вместе с ним в дверь балкона, в кусты сирени, чтобы скорее, ближе домчаться к нашей станции метро.
— Зачем, папа!? — крикнул он, закрывая оцарапанную веткой щеку. И я не мог ответить ему, дыханье перехватило от бега. Наждачный асфальт обдирал подошвы, цеплял ноги, не давая бежать, как мне хотелось — огромными прыжками, по-собачьему, по-звериному — только бы скорей под землю, под бетон, под камень… А дома вокруг были уже безмолвны, мертвы. Машины, распахнутые настежь, невпопад застыли на голых улицах. Мы одни колотимся между ними, весь город ушел под землю от ясного, как сияние, неба.
Господи, умолял я не знаю кого, помоги добежать, помоги добежать, помоги-и…
Станция была совсем рядом, и я почти упал с первых ступенек туда, где медленно задвигались огромные стальные двери, отделяя нас двоих от всех, кто был уже там, кому суждено жить. Оставалась только узкая щель, а в ней белое, как полотно, лицо женщины — милиционера.
— Отключите! Отодвиньте на столечко! Возьмите ребенка!
— Не могу, — сказала белыми, как полотно, губами узкая бронированная щель. — Не могу-у! Осталось десять секунд. Она уже взорвалась!
Я вколотил руки в эту щель, чувствуя, как они хрустят раздавленные.
— Остановите! Возьмите ребенка! — орал моим голосом каменный пустой вестибюль. В огромном окне кружилось небо вокруг ослепительного шара, затмившего солнце…
Наяву я растираю онемевшие пальцы.
* * *Утро лечит. Этот густой, свежестью остекленный воздух можно черпать ведром и опрокидывать на себя, как воду. Он течет по лицу, глазам, плечам и рукам, он вливается в тебя как живое благо, растворенный летучий хвойный мед.
Она хорошо выглядит, будто не было вечером никаких слез.
— Ты огорчен? Если я виновата, не сердись на меня.
— Я не сержусь.
— Тебе нездоровится?
— Плохо спал.
— Опять припомнил что-нибудь?
— Угадала… Мама рассказывала мне, как в начале войны объявили воздушную тревогу. Она взяла меня в одеяло и бегала по улицам вместе со мной, спрашивая у бегущих в панике людей, где найти бомбоубежище… Потом оказалось, тревога ложная, тренировочная, для проверки… А я тогда вполне мог бегать своими ногами…
Она мягко улыбнулась:
— Такой большой, в одеяле?…
Конечно, теперь это может показаться комичным.
Пусть улыбается. Все легче…
Конец первой частиЧасть вторая
Четвертая тетрадь
Больше месяца у меня было что-то похожее на душевный сдвиг. Я не мог написать ни одной строчки, не приходило желание открывать никчемный дневник, будто он уже кончился на последней странице тетради, а новую начинать бесполезно, потому что вот-вот наступят какие-то пределы, все переменится в один единственный день, придут, наконец, люди на эту поляну, придет ясность, придет окончание всех недомолвок и постоянной глухой напряженности.
Ничего не менялось, ничего не изменилось. Никто не принес вожделенную простенькую обыкновенную телеграмму, открытку, никто не отозвался на радиосигналы, которые каждый день вечером я с настойчивостью маньяка посылаю неизвестно кому. Благо, что у меня хватает воли делать это не больше пяти минут. Ровно пять оглушенных минут. В остальное время, пока светло, я как загубленный в моем упрямстве, отлаживаю, складываю понемногу наш дом. Складываю…
Неделю назад я уложил на стены потолочные плиты. Ни много ни мало двадцать шесть бетонных плит. Они были помечены все номерами. Хорошо я по наитию догадался проверить на чертежах значение номеров. Их нельзя перепутать. В нужных местах уже проделаны дыры для водяных труб, каналы для проводки, отверстия печных и каминных дымоходов. И я укладывал их, как детали огромного конструктора.
Точно так же помечены перекрытия второго этажа, которые своей очереди ждут на складе под навесом.
Да, пришла ко мне легкость, автоматизм в управлении краном. Сама укладка не стала от этого легче и проще.
Для начала мне понадобилось приручить еще один «автомобиль». Огромный колесный трактор, пахнущий соляркой, с площадкой прицепом на восьми тугих двойных баллонах. Машина так непривычна для моих водительских навыков, что подходил я к ней, как, наверное, подходил бы к самолету, если бы мне сказали, а ну, попробуй. До сих пор холодеет в груди от неуверенности, от боязни перед этим гигантом, от невозможности усвоить его габариты. Я воевал с ним ежедневно по два часа: два метра вперед и два назад, пока через неделю не прокатился на нем вокруг ангара, весь мокрый от морального напряжения, что придется мне, бедняге, сдружить в работе огромные массы металла двух машин.
Я ставил колесный транспортер в нескольких метрах от штабеля бетонных плит, подгонял кран между ним и штабелем, выдвигал массивные лапы для упора, цеплял за ушки на плитах крюки подвески, перекладывал на площадку транспортера, выходил из кабины, снимал крюки, цеплял новую плиту, шел в кабину…
Потом вез четыре плиты к дому, где все движения машин и мои повторялись, но приходилось от каждой плиты отделять прокладочные ободки по обоим краям. Нижняя сторона плит уже на заводе была хорошо полирована, оглажена, верхняя вызывала тоскливое предчувствие, что надо брать в руки автоген, с которым я никогда не имел никаких отношений, чтобы срезать кольца ушек на плитах, подготовить к настилу паркета.
И так я поднимал очередную плиту, подводил в нужное место, на глазок определял снизу, где она зависнет, выходил из кабины, поднимался туда, на плиты. В начале пришлось ходить и по стене, примеривался, куда и насколько подать, спускался в кабину крана, подавал, снова поднимался, опять слезал. И так не один раз, пока плита с натугой не устанавливалась туда, где ей положено быть. Последний раз включал кран, бетон тяжко немел на кирпичной кладке, машина вздрагивала в облегчении.
У плит по бокам наклеены белые пружинистые вспененные прокладки, похожие на белую резину. Поэтому приходилось так управляться краном, чтобы слегка потянуть плиту, когда почти ложится, влево, прижать ее к другой плите прокладкой…
Потом, кажется на пятой плите, наверх стала ходить она и показывать мне, как я ее научил, куда, насколько подвинуть, где опустить.
У нее смешно получается: манит ладошкой плиту на себя, как не видимого снизу котенка, и что-то выговаривает губами, неслышно в рокоте металла.
Добрая моя лесная фея… Кажется, я был все это время насупленным и замкнутым, если не откровенно злым. И я благодарен ей, что ни разу мои настроения не вызвали у нее какое-либо противодействие, жалобы, капризы или упреки. Случись такое, наверное, стало бы нам двоим совсем худо, неизменимо плохо.