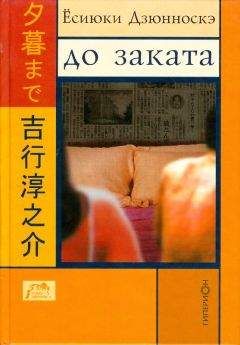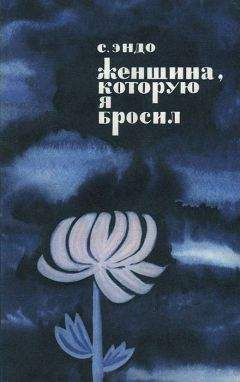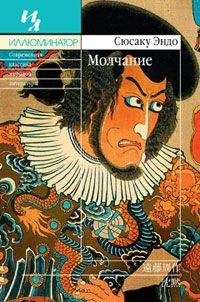Йоханнес Зиммель - Любовь — последний мост
В бюро конференций работала молодая женщина по имени Кларисса Монье, это имя было написано на табличке, стоявшей на ее столе.
Если девушки за стойкой встретили Клод с радостными улыбками, то Кларисса Монье повела себя совершенно иначе. Подчеркнуто вежливо передавая Филиппу синюю пластиковую папку с материалами симпозиума, она сделала вид, будто Клод для нее не существует.
— Желаю вам приятно провести уикэнд, месье Сорель, — сказала Кларисса Монье на прощанье, демонстративно глядя мимо Клод.
— Благодарю, — ответил он с поклоном. — Того же пожелаю и вам.
— Какая предупредительность. Какое воспитание! — сказала Клод, когда они оказались в коридоре.
— Это вы на мой счет шутки отпускаете?
— Вовсе нет. Вы так уверены в себе, вам столько всего довелось видеть в разных странах. К тому же вы с иголочки одеты…
— Клод!
— Не возражайте, пожалуйста! Этот светло-синий костюм, эта черная рубашка. Formidable, Филипп, formidable…[29]
Он рассмеялся.
— Наконец-то, — сказала Клод.
— Что, «наконец-то»?
— Наконец-то вы улыбнулись! Это впервые за все время нашего знакомства… Положим, раньше у вас и впрямь не было особых поводов для улыбок… Вам очень идет улыбка. Пойдемте, я покажу вам Центр! — она прошла вперед.
— Вот это Большой зал заседаний. Вмещает полторы тысячи делегатов, и еще двести мест есть на балконах.
Бетонные стены смелой конструкции зала, решенного в форме пятиугольника, напоминали Пентагон, — он был ошеломлен и даже напуган этим сходством. Пентагон — прямо как здание «Дельфи».
— Стены здесь раздвижные, так что помещение зала можно и увеличить, и сделать поменьше. А можно, например, одновременно проводить две или три конференции…
Они продолжили осмотр здания, поднимаясь и опускаясь на эскалаторах. Клод открыла перед ним одну из дверей.
— Сотрудники пользуются последними новинками техники. Можно проводить видео-совещания через сателлиты, а информацию получать с помощью «ремоут-контроля»[30]. Ну, что скажете, как я жонглирую такими терминами? Здесь есть четыре студии радиозаписи и четыре студии телезаписи… Пойдемте, вон там выход в очень красивый парк! У меня прямо ноги горят, там можно будет присесть…
Перед открытой стеклянной дверью им повстречался молодой человек, который, увидев Клод, радостно ее поприветствовал, подняв руку.
— Удивительное дело, — сказал Филипп.
— Что вас так удивило?
Смущенный, он подыскивал подходящие слова:
— Что все здесь так рады видеть вас… И в «Бо Риваже»… И тут тоже…
— Наверное, потому, что я такой милый человек… Разве вы этого еще не заметили?
— Нет, — сказал он. — А вы действительно милый человек?
— Говорят. А что вы находите в этом странного?
— Что эта Кларисса Монье из информационного бюро не была рада вам. Она как будто не обратила на вас внимания.
— Не все мне симпатизируют, Филипп.
— С чего бы это?
— Помните вчерашнюю ночь?
— Нет! — сказал он. — Прошу вас, не надо!
— Не беспокойтесь, я не об этом.
— А о чем же?
— Когда вы проводили меня домой, я сказала вам, что у меня репутация «великосветской коммунистки».
— И что?..
— А то, что многим людям «салонные коммунисты» не по вкусу. А коммунисты вообще — тем более!
— Разве вы коммунистка?
— Была когда-то, — сказала Клод. — И сейчас близка к тому, чтобы опять ступить на эту дорожку.
4
Летний ветер мягко веял в парке Центра конференций. Жужжали пчелы. От множества роз на большой клумбе исходил сладкий аромат. В тени старых деревьев стояли белые стулья. Клод сняла туфли.
— Я всегда мечтала стать фотографом, — рассказывала она. — Еще во время моей студенческой практики я начала делать репортажи о жизни безработных. Об обитателях сырых, непригодных для жилья квартир. Сегодня все стало куда хуже, но кое-кто заботится о том, чтобы это не становилось столь очевидным — у нас. А то, чего якобы нет, не снимешь… На Востоке, в третьем мире, — там никто не заинтересован в том, чтобы скрывать нищету… Я очень рано узнала, что такое нужда, что такое голод и отчаяние. Я сама из бедной семьи…
— Как и я, — тихо проговорил он.
— Я так и подумала. Поэтому с самого начала между нами возникла какая-то связующая нить. Мои родители были, конечно, коммунистами, французскими коммунистами. Они работали на заводах в грязных цехах за жалкую, нищенскую зарплату. Они, обессилевшие, надорвавшиеся, умерли молодыми. Когда редакция послала меня на первую войну, я была так потрясена страданиями, нищетой и смертью, что это нельзя выразить словами. Редакторы уверяли меня, будто мои снимки выражают мои чувства, что они повлияют на тех, кто затевает войны, кто считает убийство себе подобных единственно возможным для человечества выходом и постоянно со все растущим энтузиазмом эту свою деятельность углубляет и расширяет.
Она умолкла и посмотрела на старые деревья.
Через некоторое время Клод продолжила свой рассказ:
— Когда я была маленькой, я, конечно, ходила с родителями под красным знаменем и распевала «Интернационал», а перед сном истово молилась Богу, чтобы Он не оставил своими заботами папу, маму и меня, и чтобы Он помог родителям получить работу полегче, и чтобы пролетарии всех стран соединились…
Неожиданно Клод умолкла.
— Что случилось?
— Слишком уж я разговорилась. — Она массировала пальцы ног.
— Продолжайте, пожалуйста. Что было дальше?
— А дальше, — кивнула она, — мне пришлось убирать комнаты в самых дешевых гостиницах и работать официанткой, чтобы скопить деньги на учебу… С вами происходило что-то похожее?
— Да, — сказал он.
— Но вы никогда не были коммунистом.
— Никогда.
— А кто вы?
— Не понял?
— Кто вы… ну, в смысле политики?
— Никто.
Клод встала со стула.
— Что значит «никто»? Каждый человек какой-то да есть: левый он или правый, консерватор или экстремист.
— Только не я, — сказал он, и ему сделалось не по себе.
— Вы хотите сказать, что политикой вовсе не интересуетесь?
— Пожалуй.
— И никогда не интересовались?
— Никогда…
Они посмотрели друг на друга, и он первым отвел взгляд.
— Довольно много всякого выясняется в «наш чудесный день», да?
— И хорошо, что так. Выходит, вы никогда не интересовались политикой. А ваши родители? Вы ведь упомянули, что они были из бедняков?
— Мать, — сказал он. — Отец умер, когда меня еще не было на свете. А мы с матерью… у нас часто нечего было есть… жили мы так плохо, что, сколько я себя помню, мной всегда владела одна-единственная мысль: выбиться из нужды, все равно как, и никогда, никогда больше не быть бедным! И всю свою жизнь я следовал этой мысли… Однажды на короткое время, очень ненадолго, все у меня стало иначе… Но теперь я встретил вас, Клод. Здесь, в Женеве… И… и теперь я не знаю, кто я…
— Я тоже этого о себе не знаю. Никто этого не знает…
— Я не в этом смысле… Я не знаю, где мое место в жизни, и никогда этого не знал, я никогда не хотел себя причислять ни к одному движению и ни к одной партии, я хотел только работать, заниматься своим делом, вот и все…
— И никогда больше не быть бедным, — напомнила Клод.
— И никогда больше не быть бедным, — согласился Филипп. — И теперь вы презираете меня за это.
— Я вас вовсе не презираю, — сказала Клод. В ее глазах светилось сочувствие и понимание. Он увидел в них прыгающие золотистые искорки и свое отражение, совсем крошечное. — С таким же успехом вы могли бы презирать меня. Коммунизм, в который я верила, рухнул. И ни слезинки у его гроба я не пролила. Так что же? «Да здравствует капитализм, да здравствуют победители!» Победителей все любят, разве не так?
В кронах деревьев громко пели птицы. Сильно пахли розы. Над парком прогромыхал самолет «Свисэйр», шедший на посадку. Его реактивные двигатели пронзительно завывали и ревели, ветви деревьев прогибались, розы приспускали свои бутоны.
— Я хорошо понимаю, что вы могли стать коммунисткой, — сказал он, когда шум немного утих. — Но… как вам удалось… я хочу сказать — столько лет…
— Я знала о восстании в Венгрии, которое подавил Советский Союз. Я знала и о восстании рабочих в ГДР. Но когда это случилось, я еще не родилась, а когда советские танки покончили в 1968 году с «пражской весной», мне было семь лет. Я стала коммунисткой вопреки тому, что случилось в Праге, несмотря на венгерские события и восстание рабочих в ГДР. Но потом, во время одной из войн, в которой был повинен Советский Союз, я словно проснулась, я осознала, что коммунисты ведут себя преступно, и после этого я уже не могла больше быть коммунисткой. Я больше ничему не верила. Мне осталось только бороться против войны. И против всех, кто эти войны развязывает. Сражалась я с помощью фотокамеры. Но ведь отнюдь не одни коммунисты повинны в войнах, такого же рода преступления совершают и капиталисты, и я, репортер и хроникер, каждый раз убеждалась в том, что есть преступники на той стороне, как есть они и на этой… Страшные пришли времена…