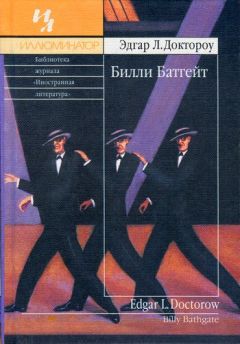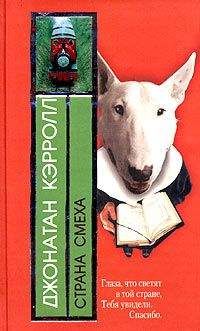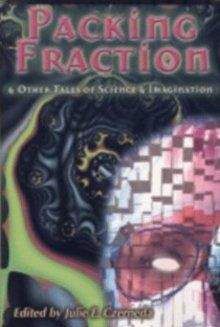Джонатан Эймс - Проснитесь, сэр!
Я не понял, что это за тон – фигуральный или игривый, – однако дипломатично предложил собственный афоризм.
– Благодарю за заботу, – сказал я, хоть в душе его проклял за то, что он меня подкараулил. Невозможно стерпеть первый вечер с выпивкой и ужином. Уже слишком трудно оперировать приводной системой Дживса: я никогда не испытывал склонность к механике.
– Просто хотел убедиться, – объяснил Маррин, – что не слишком нервничаете. Люди всегда страшно боятся первого вечера. Но тут у нас никто не кусается. А вы прекрасно смотритесь в шляпе и в темных очках. Хотя я раньше этого не говорил, мне усы ваши нравятся. Давно не видел таких тоненьких усиков.
Комплимент, последовавший вскоре после комплимента Дживса, подействовал на меня как залп бомбардировщика Б– 12 – спина, почти растекшаяся в кисель, вдруг окрепла. Я перестал проклинать в душе Маррина. Добрый человек. Доброжелательное замечание от собрата по роду человеческому – один из величайших подарков. Я сам должен раздавать их почаще. Расплата, безусловно, разумная.
– Да, – кивнул я. – Мои усы все чаще заслуживают признания большинства критиков. Вы видели фильм «Ганга Дин»? Я отрастил усы на верхней губе по образцу Фэрбенкса-младшего.
– Правда? В детстве я смотрел «Ганга Дин», но не помню Фэрбенкса-младшего, а если на то пошло, то и старшего тоже. Ну, пойдемте знакомиться с остальными.
И Маррин повел меня по служебному коридору, обшитому панелями, с несколькими поворотами, как обычно бывает в таких особняках, пока мы не попали в обширный центральный холл размерами от края до края примерно в две баскетбольных площадки, выражаясь спортивным обывательским языком.
Там были прекрасные старинные ковры, очень высокие потолки с полированными деревянными балками; широкая лестница с красной ковровой дорожкой, рядом с которой все прочие лестницы, какие я в своей жизни видел, выглядели жалкими недокормышами; роскошные диваны и кресла; журчавший мраморный фонтан напротив оригинальных дубовых парадных дверей; гигантские пасторальные картины, написанные масляными красками; античные вазы с только что срезанными ирисами и розами; причем все это, кроме, конечно, цветов, сохранилось с конца девятнадцатого века для художников конца двадцатого. Какая-то музейная диорама, но раз в жизни доводится шагнуть за красную ленту и ступить в прошлое.
Рядом с центральным холлом, сообщил Маррин, находится капелла со старинными молитвенными скамьями, где нынче устраиваются концерты, и бар, где люди собираются, играя в карты, в скребл, если не хотят сидеть в черной комнате. Столовая расположена прямо напротив капеллы, но я ее еще не видел, потому что огромная раздвижная деревянная дверь открывалась только в половине седьмого, когда звучит гонг к ужину. Наверху главной лестницы, рассказывал Маррин, библиотека, гостиные, десяток спален и еще десяток на третьем и четвертом этажах.
Как ни удивительно, в дальнем конце центрального холла стояло величественное деревянное сиденье, нечто вроде трона. Над ним даже был небольшой балдахин с затейливой резьбой – весьма непривычно видеть кресло с собственной крышей. Рядом высилось огромное витражное окно размерами приблизительно с половину теннисного корта, выходившее на заднюю террасу. Но самым примечательным в том самом троне было то, что на двух красных бархатных подушках пристроились двое темноволосых мужчин одинакового сложения, один сидел у другого на коленях, их губы сливались в довольно страстном поцелуе.
Хоть я часто раздумывал над гомосексуальным вопросом, до того момента никогда реально не видел застывших в таком поцелуе мужчин. Может быть, подмечал мимолетное чмоканье на углу Вест-Виллидж-стрит, но французский поцелуй двух любителей греческого искусства стал для меня абсолютной новинкой. Братский близнечный дух объятия ошеломил и потряс. Поцелуй мужчины и женщины смотрится совсем иначе: крупная фигура заключает в себе меньшую, грубость сплавляется с нежностью. А тут нечто вроде рукопашной борьбы между равными оппонентами. Продолжая метафору, мне казалось, будто бицепсы присосались друг к другу, возможно, потому, что оба мужчины были в футболках, насмерть стискивая друг друга мускулистыми руками.
– Люк и Крис, – с некоторым отвращением пояснил Маррин. – Только что познакомились. Оба слегка обезумели. Кое-кто возмущается.
По красной лестнице спускалась, держась за руки, пара, которая мне в тот день раньше встретилась: мужчина в перекошенных очках, с поникшими плечами и медноволосая женщина с измученным лицом.
Маррин представил нас друг другу:
– Молодой романист Алан Блэр, а это Джун и Израэль Гринберг, поэты.
Прежнее предположение оправдалось: поэты! Супружеская чета поэтов!
Вблизи они не выглядели такими отчаявшимися, как в тот момент, когда я проезжал мимо в «каприсе», хотя физические и моральные тяготы творческой жизни наложили на них заметный отпечаток. Но они были вместе, и это, наверно, очень утешительно. Пусть даже жизнь сильно их потрепала, оба не одиноки, и весьма мило меня приветствовали дружелюбными репликами и ласковыми взглядами. Поэтому не следует судить о них по убогому внешнему виду – сразу видно любящие теплые души, может быть, потому, что жизнь их сильно била. Долгие жизненные невзгоды часто смягчают человеческую натуру, хотя столь же часто делают ее грубее и злее.
Мы вчетвером направились из холла, пройдя мимо трона, на котором Крис с Люком по-прежнему стискивали друг друга в объятиях, впрочем, никто из нас прямо на них не взглянул, гарантируя неприкосновенность личной жизни, даже если они того не желали.
Снаружи собралась пирующая компания, воздух был жарким, однако приятным, предвечерний свет окрашивал все вокруг шепчущим цветом, летним румянцем. Присутствовали почти все колонисты, человек сорок. Задняя терраса была длинная, широкая, как олимпийский бассейн, – выясняется, что нелегко давать осмысленное представление о размерах без ссылок на спортивные сооружения, – выложенная серыми каменными плитами. Там стояли зеленые пластмассовые стулья, несколько зеленых пластмассовых столиков, населенных винными бутылками и стопками прозрачных пластиковых стаканчиков. По краям террасы тянулись каменные скамьи, на которых в разнообразных непринужденных позах сидели люди, другие стояли, болтая друг с другом. Каждый держал в руках прозрачный пластиковый стаканчик с желтой жидкостью – с белым, больным желтухой вином!
Маррин повел меня по кругу, представляя обществу, я нервно плелся следом, прилагая все силы, слишком стараясь выжить, чтоб думать о собственном превосходстве. Маррин хотел со всеми меня познакомить, поэтому мы не задерживались с разговорами, просто обменивались улыбками, именами, профессиональным статусом – прозаик, скульптор, композитор, поэт, художник, писатель-документалист, – и все; хотя, когда мы отходили от каждого представителя изобразительного искусства, Маррин кратко описывал мне его творчество. Выходило, что у каждого живописца и скульптора был свой оригинальный стиль, фактически хитроумный трюк: тот скульптор создает модели детей без всяких отличительных признаков; тот художник пишет портреты с портретов; тот скульптор делает скульптуры из краски; тот художник выпускает холсты, расчерченные на пронумерованные квадраты, которые покупатели сами раскрашивают, и так далее.
Я заметил, что ни на одном мужчине нет ни пиджака, ни галстука – даже просто пиджака, если на то пошло, – но не особенно удивился, поскольку далеко не у каждого найдется спортивный пиджак, по плотности подходящий для теплого летнего вечера. Впрочем, несмотря на вольную одежду, обстановка и атмосфера были, безусловно, чудесными: гаснувший солнечный свет, величественный особняк за спиной… Почти все недавно приняли душ – влажные волосы, сияющие глаза, порозовевшая кожа. Освещение льстило всем нам, даже милые Гринберги засветились. Все были в возбужденном, приподнятом состоянии духа. Рады хоть ненадолго избавиться от повседневности, выйти на сцену, пожить той жизнью, какой богачи жили сто лет назад, выпивая перед ужином на террасе особняка.
Даже не прибегая к приводной системе Дживса, я справлялся неплохо. На фронте рукопожатий действительно добился превосходства – ни разу не смутился, чувствуя, как мне тискают пальцы, что для меня обычно составляет проблему.
Далее – кажется, никто не обращал особого внимания на темные очки и шляпу. Фактически был там один высокий меланхоличный писатель средних лет с повязкой на глазу. Аксессуар, безусловно, более странный, чем мой, что облегчало дело. Одет он был неброско – джинсы с белой оксфордской рубашкой, – но в наши дни люди редко расхаживают с завязанными глазами, поэтому я рядом с ним выглядел в очках и шляпе сравнительно нормально и здраво. После того как Маррин увел меня от пирата-писателя, я сообразил, почему его имя – Реджинальд Мангров – знакомо звучит. Я с большим удовольствием прочел его книгу «Ад – это другие люди», хотя современных романов почти никогда не читаю, как всегда с запозданием предпочитая старых писателей. Поэтому мне захотелось впоследствии поподробнее поговорить с Р. Мангровом.