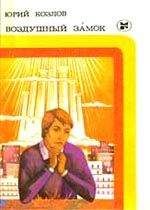Денис Соболев - Иерусалим
Я все еще был погружен в темный обморок этой службы, думал о ней, о ее чуждости; почти не заметил, как оказался в Коптской церкви, примыкающей к храму. Лица чернокожих апостолов сосредоточенно смотрели на меня с ее стен. Я прошел сквозь церковь, поднялся по лестницам во внутренний двор; дверь часовни была открыта, я дал служке пару мелких монет, и он молча указал на низкий коридор, вырубленный прямо в скале. Пригнулся, постарался пройти быстро, не ударившись затылком о потолок, но чуть позже стены расступились, обнажив огромную пещеру; коридор превратился в разбитые влажные ступени, спускающиеся прямо к воде. «Ого-го», сказал я громко; «ого-го», ответило эхо звучно, торжественно и раскатисто. «Пам-па-рарам», пропел я; и эхо весело повторило за мной. А потом я долго стоял, молча, у самой воды, вдыхая холодный влажный воздух; присел на корточки, сложив руки на коленях, слушал, как каждый шорох разносится эхом, слушал тишину. Подземная вода, кровь этой земли, лежала у моих ног; тихо покачивалась. Мне стало холодно, я вышел в переулок, обогнул несколько домов и оказался около Церкви Спасителя. Вокруг нее кричали арабы, ругались и торговали, но внутри было тихо и пусто; здесь не было ни скульптур, ни икон. Я прошел чуть дальше и сел на одну из пустых скамеек; заметил, что церковная прохлада была уже совсем зимней; за моей спиной прошелестели шаги, скользнула косым лучом вспышка фотоаппарата, потом туристы исчезли. Стало совсем тихо. Я долго сидел так, не замечая времени, погрузившись в этот холодноватый и прекрасный обморок бытия. Где-то в глубине церкви невнятно и торжественно плеснула музыка, еще через секунду прояснилась; невидимый органист играл хорошо известную мне фугу, ошибался, пытался исправиться и начинал снова, каждый раз выбирая для начала повтора самое удивительное и неожиданное место. Но, к счастью, органиста не было видно, и его мучительные поиски так и не принесли с собой удушающего дыхания человеческого присутствия, всего лишь немного замутнив холодный и прозрачный воздух церкви, иллюзорной каменной пустоты, сумеречного залива вечности и смерти. И все же я встал, медленно пошел к выходу.
У двери сидел охранник, очень сносно говоривший по-русски; долгое время я принимал его за грузинского еврея, но он оказался арабом, несколько лет учившимся где-то в российской глубинке. Я заплатил ему пять шекелей, и он указал мне на дверь лестницы, ведущей на колокольню; я поблагодарил его. За дверью была узкая винтовая лестница, и, поднимаясь по ней, я подумал, что каждый раз, когда я бываю здесь летом, на верхней площадке оказывается множество праздношатающихся и туристов. Но туристский сезон кончился, и приближающаяся зима сделала свое дело; на колокольне было пусто. Я подошел к каменному бортику, поближе к высокому прозрачному воздуху расстелившегося передо мной неба. Облаков почти не было, и небо дышало сверкающей летней голубизной. Этот город лежал под ногами: крепостные стены университета на горе Скопус, Масличная гора с белыми чешуйками кладбищенских камней, узкие переулки старого города, сверкающий золотой купол и бесконечный белый город, уходящий на запад. Из полутьмы колокольни я смотрел на застывший вокруг меня ослепительный летний день; и мне показалось, что вечность подошла совсем рядом и с чуть ощутимым недоумением взглянула на меня. Послеполуденная жара подступала к толстым каменным стенам, легкая белесая дымка маячила на горизонте, изумрудный полумрак башенной площадки обволакивал меня со всех сторон; густая и затхлая тоска мира отхлынула в пустоту небытия. Мне захотелось заплакать, и я сжал губы, а город тем временем, расползаясь и снова соединяясь, медленно менялся, избавляясь от уродливых знаков времени; исчезли торговцы, рынки, крики, витрины, покосившиеся дома и разбитые тротуары, продажные борзописцы и раскрашенные девки. Я повернулся на восток и увидел поднимающиеся стены Храма, узкие переулки с готическими арками; к северу от Старого Города вдоль лестниц с темными сапфировыми ступенями лежали бесконечные сады с черемухой, желтыми розами, платанами, крыжовником и бузиной. Тяжелый, пугающий и сладостный мир истины коснулся моей души. Узнавание было ослепительным и мгновенным; открывшийся мне мир вечности и духа протягивал свои руки, призывая назад, домой, где уже никогда не будет непоправимых ошибок, горечи и одиночества. А потом я увидел их лица, движения, шаги; их одежды были белоснежными, а горизонт уходил все дальше и дальше. Я постепенно ощутил, что открывшийся мне таинственный и величественный город растворяется в сплетениях предвечного ковра мироздания.
Но неожиданно из прозрачного полумрака души, сливающегося с окружавшим меня сумраком башни, поднялись смутные, пронзительные, пронизанные меланхолией воспоминания. Я подумал про Инну, теперь уже потерянную для меня навсегда, и вдруг она, или, точнее, ее душа, высветилась и предстала перед моим мысленным взором в своем подлинном, незамутненном обличии. И в то же мгновение, как никогда ясно, в ней проступили детскость, наивность и неуверенность, даже робость, уже не прикрытые путаными разговорами недавней школьницы, но одновременно с ними — решительность и твердость, хранившие ее столь необыкновенную душевную ясность и внутреннюю чистоту. Своей неровной трогательной походкой она шла навстречу мне; я бросился ей навстречу и вдруг увидел, как исчезает все случайное, все наносное, все мучительное и иллюзорное. Почти сразу же я почувствовал, что мысль о ней снова становится для меня глотком утреннего воздуха, холодной воды из глубокого колодца вечности. Мы стояли на высоком холме, и под ногами скользила серебристая лента реки времени; она улыбалась уголками глаз, но это была улыбка того, что уже не преходит. Вечность вступила в свои права; день и ночь слились воедино, и на сверкающем голубом небе проступило тонкое, чуть заметное кружево созвездий. Я взял ее за руку, и она сжала мои пальцы все с той же смесью решительности и робости; свет коснулся земли, ее тонкого зеленого покрова и коричневой обгорелой корки, и мы оба, двигаясь почти синхронно сквозь ущелье расступившегося времени, поняли, что, как бы ни сложились наши отношения в мире случайного и уродливого существования, в истинном мире наши души уже неразлучны, так же, как были неразлучны изначально, созданные единой рукой по единому лекалу, обреченные на страдания и разлученные, но и неразлучные, потому что пока существует этот город с его храмом, переулками и садами, ни одно время не в силах разлучить вечность.
8Седьмым ее мужем был местечковый меламед[77]. Как и два предыдущих, он был чужаком — впрочем, чужаком, уже прижившимся в Друе. Он появился вскоре после смерти ее шестого мужа с нехитрым скарбом и котомкой книг. Детей в хедере он не бил, чем и заслужил снисходительную симпатию и легкое пренебрежение. Друзей у него не было. Сара часто встречала его на узком прогнившем мосту через речушку, впадающую в Западную Двину, или на опушке леса; спрятав руки в карманы, он шел, глядя в пространство, и, казалось, не замечал ее. Теперь, пользуясь своей скверной репутацией, Сара тоже часто гуляла одна. Однажды, спасаясь от преследовавших ее косых взглядов, она углубилась в лес чуть дальше, чем обычно, и вышла на маленькую поляну, усыпанную рыжим конфетти лисичек. Меламед лежал в высоких зарослях лебеды и тысячелистника, положив голову на руки и насвистывая незнакомую ей мелодию; потом он приподнялся, чуть подвинулся и прислонился к корням почерневшего гнилого пня. Рядом с ним, приминая сухие стебли травы, лежала раскрытая книга без переплета и титульного листа. Она рассеянно огляделась, постояла за его спиной и неслышно направилась в сторону соседней прогалины. «Не бойтесь, — сказал он, не поворачиваясь, — можете сесть и здесь. Трава уже сухая. Я не буду говорить с вами про ваших мужей». И она послушно села, всматриваясь в сухие желтые заросли шелестящего бурьяна, при каждом ее движении наполняющего воздух чуть слышным треском. Белые шары сухих цветов неуклюже дрожали на хрупких спицах стеблей, подражая трепыханию мотыльков и отмечая своими судорожными вздрагиваниями невидимые движения ветра.
— Вы читаете по-немецки? — спросил меламед.
— Разумеется, нет, — ответила Сара.
— Тогда слушайте, — сказал он, раскрывая свою безымянную книгу. — Я буду читать очень медленно, и вы все поймете.
Nicht an meinen Lippen suche deinen Mund,
nicht vorm Tor den Fremdling,
nicht im Aug die Trane[78].
— Можно взглянуть на вашу книгу? — прервала его Сара. На пустой странице не было ничего, кроме шести строк; перевернуть страницу она не решилась и стала читать дальше.
… Aug die Trane
Sieben Nachte hoher wandert Rot zu Rot,
Sieben Herzen tiefer pocht die Hand ans Tor,
Sieben Rosen spater rauscht der Brunnen[79].
Capa сидела, обхватив колени руками. Когда тень ели дотронулась до ее полусогнутых ног, меламед поднялся.