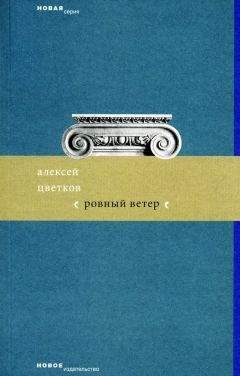Вера Галактионова - Спящие от печали (сборник)
Того – она ненавидела теперь за всё: за пустое своё ожиданье, за благополучную его нерасторопность, давно уж смертельную для неё. За то, что он предпочёл оставаться бесконечно долго – без неё, в своём умном мире, где тепло от всепонимающей вечной ласки… За то, что даже сегодня пришёл – не он…
За эти свои слёзы обречённости – она будет мстить – бессмысленно, безжалостно, безостановочно – тому, промедлившему преступно, если только он объявится когда-нибудь, потом, со своей неземной любовью. Нюрочка будет только мстить, и ничего не сможет с собою поделать… За то, что на дедушкин диван лёг – не он. Лёг другой…
Чтобы Нюрочка себя не погубила, этот парнишка обязан жить долго. С нею одной, верной ему одному, тихонько всхлипывала она.
…Нет, парнишка не должен помирать рано. Он должен жить всегда. При ней – только дольше неё.
* * *– Сигарет нету? – спросил парнишка через время, ворочаясь за перегородкой. – Отец твой что, не курит?
– В Россию он уехал. Три года назад, место искать, – ответила Нюрочка с неохотой, сдвинув подушку в сторону. – Мачеха Маринка говорит: сгинул… Сейчас многие люди там погибают. Без всяких вестей.
– Это – смотря какая у него специальность, – рассудительно заметил парнишка. – Вот с нашей – не пропадёшь.
– Он в быткомбинате работал, обивщиком мебели. Пружинные матрацы обтягивал. Кресла, диваны. У него много свободного времени было. Потом производство закрыли. Безработный стал.
– …Что же у тебя мать не за инженера вышла? – спросил парнишка недоумённо. – А за быткомбинатского, простого?
– Он скромный. Мама за скромность всех людей очень уважала, – отвечала Нюрочка в темноту. – Непьющий. И любил её… Она считала, что он очень, очень сильно её любил! Боялась, что так любить её уже никто не сможет… Поэтому только вышла.
– А на самом деле? Не так? – догадался парнишка.
Нюрочка не ответила.
– Здесь луна, между прочим, уже в окошко глядит, – бодро проговорил парнишка. – Здоровая! Лупит, как прожектор с вышки. В зоне лежишь – или где: не поймёшь… А тебе там не видно.
– Здесь у меня тоже светлее стало… Спокойной ночи.
– Спокойной…
– А у меня мать – нормировщица! – громко сказал он тут же. – Отец шобутной, под сокращение попал, но мать обещала: как только женюсь, бабкину комнату в бараке мне отдадут… Они у меня простые. Не жадные… А твоему деду отец-то твой не шибко нравился, да?
– Ему не нравилось, что он в самодеятельности участвовал. Положительных людей в клубе изображал… Дедушка говорил: «Учиться не хочет, а интересничать на сцене соглашается, нехорошо…» И маму упрекал: «За массовика-затейника вышла».
– А она что? Мать?
– Ничего. Пока дедушка живой был, возражала. Потом, когда не стало его, тоже про папу сказала: «Гнилой посох…»
– А полки ваши так, значит, и не наладил? Обивщик?
– Нет… Он мечтал только стать в клубе художественным руководителем – и всё.
* * *В Нюрочкином окне появился край луны, узкая комната стала видна вся – шкаф, стол, табурет, – и скука затаилась, уступая место смутному непокою. Засеребрилась, замерцала никелированная коретка койки, и тускло поблёскивало теперь дверное стекло.
– Он добро любил делать! Отец, – сказала Нюрочка, отворачиваясь от холодного, тревожного света к перегородке.
Панцирная провисшая сетка проскрипела под тяжестью её тела и коротко громыхнула.
– Добро? – не понял парнишка за стеною. – Какое добро?
– Разное… Когда все без работы остались, и мама, и он, пришёл знакомый один. Стал просить деньги на ящик водки, для свадьбы. И папа маму спросил: «Как, Тата? Отдадим? У нас ведь есть? Ну, те, что для Нюрочки от деда остались? Они последние, правда»… Она говорит: «Поступай, как сочтёшь нужным». А папа топтался: «К человеку гости приехали. Ему надо». Тогда мама опять сказала: «Как хочешь». И он отдал… Мы потом несколько дней ничего не ели… Это я виновата, потому что каши просила. Как ненормальная… Папа – ничего, а она не выдержала. Взяла кусачки и пошла в трансформаторную будку, провода срезать. Чтобы на металлолом их сдать. А кусачки не изолированные были, поэтому её убило… Я всё помню. Но меня на похороны не взяли, в доме заперли. Чтобы я меньше переживала…
Её слова угасали в полутьме сразу, безучастные, скучные:
– …Я на диване сидела с куклой, а её хоронили. И кукла холодная была. Тусклый день стоял, долгий… Я ни одно окно не смогла открыть, чтобы выпрыгнуть! Разбить стекло надо было, наверно… Там хоронили, без меня, а я – с куклой… Отперли, конечно, как с кладбища все вернулись… Тот сосед, который у нас деньги на водку забрал, отца по спине хлопал: «Не горюй! Бог бабу отнимет – девку даст!» И за стол они сели… А я от них ушла во двор, стала свою куклу хоронить. Любимую… Всех кукол потом хоронила. Зарывала вон там, на заднем дворе, в куче золы… С ними уже не играла. Книги только читала… Маринка кукол в золе находила. Меня ругала, а я – всё равно… Даже не знаю почему.
Парнишка спросил про отца:
– А что же он сам не пошёл? Провода срезать?
И Нюрочка ответила:
– Он к этому плохо относился. К воровству… Просить взаймы тоже не мог. Не выносил просто. Ему неудобно было… И только правду всегда говорил.
* * *То ли от здешней скуки, то ли оттого, что ночь только началась, мальчишка принялся там, на кухне, ходить от окна к дивану, от дивана к окну.
– …Козёл он! А не скромный. Отец твой, – сказал парнишка. – Ни хрена он её не любил. Притворялся, козлина.
– Просто он положительных людей долго на сцене изображал, – ответила Нюрочка за перегородкой.
На кухне звякнула кружка. Парнишка зачерпнул воду из ведра, не включая света.
– Забудь про него! – велел он и стал пить. – Отца у тебя тоже нет. Вот так считай… И про границы миров, про тени, про синий час – никому не говори. А то подумают, что ты того… с приветом.
Подумав, Нюрочка согласилась:
– Да. Надо молчать. Про это. И про остальное… Особенно про остальное.
– …А женился потом небось сразу? Отец твой? – парнишка опять укладывался на диван.
– Да-а-а, – удивлённо протянула Нюрочка. – Ты откуда знаешь?
– Козлы всегда так делают.
– Маму похоронили, он на Маринке женился. Через неделю. Говорил, что на девять дней стряпать надо – поэтому, для поминок… Она доярка, зато молодая. Муки принесла. И молоком нас напоила сразу… А потом в больницу попала. На ферме бык взбесился и на рога Маринку поднял. Тогда отец Натульку привёл. Она ещё моложе Маринки; из десятого класса, второгодница… Сказал: потому что ребёнку нужна мать. И Натулька при нём добрая была, а без него озоровала. Ей нравилось тогда людей донимать, по молодости… Но Маринка из больницы вернулась и Натульку выгнала. Даже сковородкой стукнула по голове, хоть ещё слабая была… Вот, теперь со мной, чужой, и мучается одна.
– А чего ей с тобой мучиться?
– Ну, как… – задумалась Нюрочка. – Я ем всё-таки не мало… Но одежду я никакую не прошу, мачехино всё донашиваю.
* * *Парнишка, должно быть, заснул или задумался. И Нюрочке в узкой спальне её был слышен только скрип форточки и слабый шум свежего ветра, долетавшего порывами с близкого Жёлтого озера. От солончаков, проступивших на месте каналов, вырытых когда-то для орошенья кукурузного поля, тянуло морским запахом бледной травы солянки, сорной, переспевшей, осыпающейся в июле сухими семенами. Когда ветер дул со стороны степи, бывал он другим – душным, горьким от полынка…
– Надо спать, – сказала себе Нюрочка, думая, что новую осень и новую зиму ей тут уже не перенести: то ночная скука вытесняла её из дома.
– …Хорошо, что он провалился, козёл! – вдруг сердито проговорил за перегородкой парнишка. – От таких толка не бывает. Зато мороки полно… Ты бы с ним замучилась, с отцом. Вкалывать бы устала, на его доброту… Забудь! И про деда своего забудь. Он тебя с матерью в глуши оставил, на этого козла…
– У него сил для нас не осталось. И для себя – тоже… Ему учёное звание вернули, но он тут жить привык. Старенький уже, повторял: «Всё поздно». И ещё: «Не всё ли равно, где человек превратится в прах? А здесь, в степи, мы превратимся в прах радиоактивный, всё больше пользы для будущих атомных станций будет»… Но мама говорила: «Ему больно. Туда, где много непосильного пережито, люди не возвращаются».
– На это, короче, тоже наплюй, – перебил её парнишка. – Не вспоминай! Одна так одна.
Он помолчал озадаченно.
– Тебе, слушай, озвереть надо! – решил он. – А то… Сдохнешь ты с этой мурой. Забудь всё… Всех!.. Всё, всех забудь, слышишь?!. Выкинь из головы.
– У меня голова ничего не забывает, – призналась Нюрочка с печалью. – Я не сумею.
– Значит, окачуришься… Ворон тут у вас, в вашей «Победе» долбанной, как грязи! Выходил во двор – всё небо чёрное, колышется… – зевнул парнишка и затих.
* * *Потом из кухни не доносилось уже ни шороха, ни скрипа. И Нюрочка задремала.