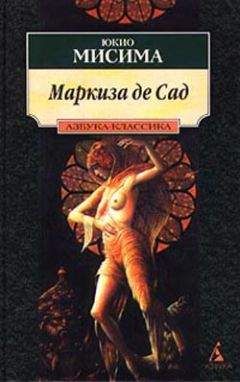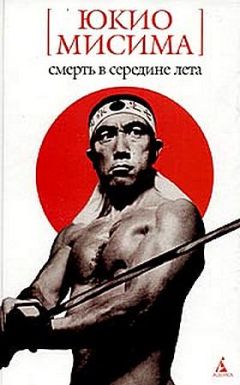Юкио МИСИМА - ПАДЕНИЕ АНГЕЛА
Раз решив, что другой человек — ничто, он теперь считал своей миссией подчиниться соблазну.
Как-то поздним вечером Хонда позвал Тору к себе в кабинет. Постоянно идущие дожди усилили запах плесени в этом кабинете, оформленном в английском стиле, кабинетом пользовался еще отец Хонды. Хонда не любил и не включал кондиционер, поэтому у Тору, который сидел перед ним на стуле, на белой груди, видной через расстегнутый ворот рубашки, блестели капельки пота. Хонда подумал: «Отвратительная молодость, цветет здесь, как белый цветок гортензии».
— У тебя уже скоро каникулы.
— Но перед этим экзамены, — ответил Тору, откусив ровными передними зубами кусок от плитки шоколада с мятой.
— Ты грызешь прямо как белка, — засмеялся Хонда.
— Правда? — Тору, ничуть не обидевшись, весело рассмеялся. Хонда, глядя на его смеющееся белое лицо, подумал, что этим летом его щеки должны посмуглеть, но какая кожа — ни малейшего намека на юношеские прыщи. Он достал из ящика стола фотографию и просто, как и было задумано, бросил ее на стол перед Тору.
Стоило посмотреть на то, как Тору взял фотографию. Хонда наблюдал за ним, не упустив ни одной мелочи. Тору сначала строго, словно охранник, проверяющий пропуск, посмотрел на снимок, вопросительно взглянул на Хонду, затем снова перевел взгляд на фотографию и на этот раз, явно скрывая юношеское любопытство, до самых мочек залился краской. Положив снимок на стол, он сунул палец в ухо и почесал там. Потом довольно сердито произнес:
— Красивая.
«Какая совершенная реакция», — восхитился про себя Хонда. Из заурядного, типичного для его возраста состояния возбуждения (притом что ситуация была неожиданной) Тору вышел не просто с честью, а придал этому нечто поэтичное. Хонда как-то сразу забыл, что дело всего лишь в том, что Тору реагировал именно так, как того желал Хонда.
То была сложная комплексная работа. Прикинуться грубым, чтобы скрыть смущение, Хонда будто сам вдруг оказался на месте юноши.
— Ну, как? Есть желание встретиться? — спокойно спросил Хонда. Наблюдая за тем, какая реакция последует на этот раз, от беспокойства, как бы повернуть все так, как ему нужно, Хонда закашлялся. Тору мягко поднялся, обошел вокруг стола и постучал отца по спине.
— Да, — рассеянно ответил Тору; стоя за спиной отца, он уже не прятал блеска в глазах и бормотал про себя: «Я дождался, наконец-то, вот оно то, почему можно больно ударить!»
За окном, что находилось у него за спиной, шел дождь. Дождь, освещенный светом из окна и обильно, словно черный пот, стекавший по коре деревьев… Поезда метро, двигавшиеся по наземной линии в окрестностях, вечером шумели громче, Тору представил себе ряд вагонных окошек, которые вскоре нырнут под землю, отец продолжал кашлять. Но в этой ночи нигде не было признаков корабля.
22
— Вы можете некоторое время пообщаться. Если она тебе не понравится, сразу так и скажи. У нас нет никаких обязательств, — внушал Хонда Тору.
Как-то вечером уже во время летних каникул Тору пригласили на ужин, и он отправился в дом девушки. После ужина Момоко Хаманака, выполняя указания матери, повела Тору в свою комнату на втором этаже. В обставленной по-европейски комнате метров в двенадцать все говорило о том, что ее хозяйка — юная девушка. Тору впервые в жизни попал туда, где все дышало девичеством. В комнату всю в розовых складочках, заполненную какой-то мягкой путаницей. В обоях, картинах, куклах, украшениях чувствовалось изящество, заложенное женской рукой, пело что-то настолько трогательное, что становилось трудно дышать. Тору сел в углу в кресло. Большая вышитая подушка делала его страшно неудобным.
Момоко выглядела взрослой, но именно это придавало ей особую прелесть. Чуть анемичное свежее белое лицо вызывало в памяти лица со старых гравюр с нечетко выраженными чертами. И только потому витавшая здесь печальная истина выделяла ее одну как не имевшую отношения к множеству прелестных вещиц в этой комнате. Красота Момоко была слишком правильной, в ней чувствовалось что-то искусственное, как в сложенном из белой бумаги журавлике.
Мать Момоко, принеся чай и сласти, вышла, и Тору с Момоко, хотя до этого они несколько раз уже встречались, впервые остались вдвоем. Но атмосфера от этого не сгустилась. Момоко была абсолютно спокойна, ведь положение, в котором она находилась, было ей указано. Тору подумал: «Нужно прежде всего объяснить ей непрочность ее положения».
Тору был не в настроении: за ужином с ним обращались слишком запросто, тогда он всячески старался скрыть свое недовольство, а здесь оно готово было прорваться наружу. «Тоже мне — задумали скрещивание, ухватили пинцетом крошечный кусочек любви и теперь всячески его раскрашивают. Чтобы приготовить мне сласти, меня же и заставили лезть в духовку»… Но для Тору что лезть по собственной воле, что — по чужой значило одно и то же. Ни разу не было такого, чтобы он был недоволен собой.
Когда они остались вдвоем, Момоко первым делом вынула из пронумерованной коробки с альбомами какой-то один и принесла показывать Тору — известный заурядный прием. Открыв его на коленях, Тору увидел полуголого младенца с раскинутыми ножками. Трусики от пеленки раздулись и напоминали штаны фламандского рыцаря. Розовая плоть нежного ротика с отдельными, еще не выросшими зубками.
— Кто это? — поинтересовался Тору.
Реакция Момоко оказалась неожиданной. Взглянув на фотографию, она тотчас же, прикрыв одной рукой страницы, вырвала альбом у Тору и, прижимая его к груди, отбежала к стене, она тяжело дышала.
— Кошмар! Номер на коробке не соответствует содержанию. Показать вам такое! Что мне теперь делать?!
— Это что, такая страшная тайна, что ты когда-то была младенцем? — равнодушно спросил Тору.
— Какой ты спокойный. Прямо как врач, — постепенно успокаиваясь, проговорила Момоко, возвращая альбом на полку. Судя по рассеянности Момоко, Тору решил, что в следующем альбоме, который попадет ему в руки, наверняка появятся фотографии семидесятилетней Момоко.
Но следующий альбом был самым обычным — там были фотографии, сделанные во время недавних путешествий. По любой фотографии можно было понять, что Момоко — всеобщая любимица. Это была хроника какого-то скучного счастья. Больше всего было фотографий прошлогоднего путешествия на Гавайи, Тору привлекла фотография, где она осенним вечером разводит во дворе костер. На цветном снимке пламя казалось живым, оно торжественно освещало лицо присевшей на корточки Момоко, точно лицо жрицы.
— Ты любишь огонь? — спросил Тору.
Перед глазами у него были глаза Момоко, в которых застыл вопрос, как ответить. У Тору возникла странная уверенность в том, что у смотревшей в огонь Момоко в тот момент были месячные. А теперь?
Если быть абсолютно свободным от сексуального любопытства, каким же образом реализовать собственное метафизическое зло? Тору знал, что не все можно осуществить так же легко, как добиться увольнения домашнего учителя. Но он был уверен, что, как бы его ни любили, в душе он будет хранить холод. Именно этот, живущий в нем ярко-синий космос.
23
Тем летом Хонда, боявшийся отпускать Тору от себя, решил совершить с ним поездку на Хоккайдо. Чтобы не уставать, он составил довольно спокойный график передвижения. Кэйко, которой стало трудно ездить вдвоем с Хондой, положившись на родственника, бывшего послом в Швейцарии, отправилась в Женеву. Семейство Хаманака хотело провести летом несколько дней вместе с отцом и сыном Хонда, поэтому обе семьи взяли номера в гостинице в Симоде. Страшная жара, наступившая после сезона дождей, поставила всех в тупик, Хонда почти не покидал комнаты с кондиционером.
Обе семьи договорились ужинать за одним столом, и когда супруги Хаманака были готовы, они зашли за Хондой. Госпожа Хаманака поинтересовалась, не заходила ли Момоко. Хонда ответил, что они с Тору только что вышли прогуляться в сад, сославшись на то, что до ужина еще есть время. Супруги Хаманака опустились в кресла и стали ждать молодых людей. Хонда, опираясь на палку, стоял у окна.
«Ну вот, началось», — про себя думал он. Есть не хотелось, да и меню в гостинице оказалось довольно скудным. Даже отсюда было слышно, как в ресторане шумят постояльцы со своими вульгарными семьями. Да и разговоры, которые вели супруги Хаманака, как правило, были скучными.
Хонду, хотя он этого не любил, вызывали на разговоры о политике. В семьдесят восемь лет, даже если ноют все суставы, отсутствие интереса можно спрятать только за любезностью, за прекрасным настроением. Дело было в безразличии. Чтобы влачить существование в этом мире, оставалось только преодолевать глупость. Безразличие было как прибрежная полоса, куда изо дня в день обрушивались волны и прибивало выброшенные предметы. Порой Хонда чувствовал, что у него еще осталась, правда, порядком поизносившаяся, грубость: не может он жить в окружении угодничества и поджатых губ, он им еще покажет. Но и это ощущение постепенно исчезло. Осталась только подавляющая глупость, к этому примешивался запах, который распространяла вульгарность, все окрашивалось в один цвет. Вульгарность в этом мире имела тысячи видов. Вульгарность, полная благородства, вульгарность белого слона и вульгарность поклонения, вульгарность журавля, вульгарность, переполненная знаниями, вульгарность ученой собаки и персидской кошки, монарха и нищего, вульгарность преступника и бабочки, вульгарность песочного жука… наверное, круговорот жизни был наказанием человечеству за эту вульгарность. Главной и основной причиной ее было желание жить. Хонда тоже принадлежал человечеству, и, пожалуй, единственное, что его отличало от других, так это необычайно острое чутье.