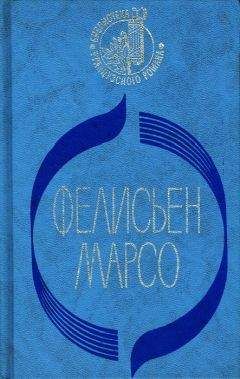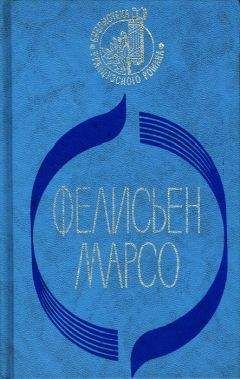Фелисьен Марсо - На волка слава…
Делаешь что-нибудь. Хорошо. Спишь или не спишь, выходишь или возвращаешься, крадешь или нет. Хорошо. Затем стараешься найти доводы, мотивацию, побудительную причину. Почему? Потому что появляется в этом необходимость? Вовсе нет. Вполне можно жить и без причин. Но только в этом случае прежде всего нужно СОГЛАСИТЬСЯ жить без причин. В этом — вся трудность. Система давит на нас. Система отравляет нас. Поэтому, совершив поступок, человек начинает искать причину. Чтобы прицепить ее к решетке. Чтобы прицепиться к решетке. Чтобы остаться в подвешенном состоянии. Чтобы успокоиться. Чтобы преодолеть страх. Страх быть не таким, как все. Страх дойти до глубин. Страх коснуться дна собственной своей души. И вот срочно подыскивается причина, за которую человек хватается, как за ручку зонтика, зацепившуюся за решетку. Потому что пока у человека есть причина, невозможно добраться до дна. Однако дело в том, что истина находится на глубине, как раз на самом дне. На дне собственной души. А туда никто не смеет заглянуть. Из-за причин. Из-за побудительных причин. Из-за всего того, что накладывается на поступки, чтобы замаскировать их смысл? Это как подмостки. Вы когда-нибудь уже поднимались на подмостки? Да? Прекрасно! Тогда вы должны знать, что все, что происходит на подмостках, то, что человек там делает, это, может быть, если хотите, и не ложь, но это и не совсем правда. Там человек пыжится, прикидывается храбрым, рисуется, изображает добродушие, смеется неизвестно над чем. Нервно. Или валяет дурака. Даже не отдавая себе в этом отчета. А где же в это время находятся те, кто по-настоящему живет, кто смеется только тогда, когда хочет, у кого на лице сохраняется естественное выражение, где они? У помоста. Или, еще точнее, под помостом. Ведь у тех, кто стоит около помоста, внимание все же отвлечено. А вот того, кто находится под помостом, уже ничто не отвлекает. Там человек пребывает в темноте, в многолюдье, в истине. Причины — это и есть подмостки. Отговорки, извинения, оправдания — это все подмостки. Человек что-то делает, а потом извращает свой поступок, придумывая для него доводы, побудительные причины. Или, скажем, действует без настоящего внутреннего интереса, подталкиваемый, как на подмостках, непроверенными доводами, действует, я это повторяю, в метре над самим собой. В то время как истина находится в глубине человека, на дне, под подмостками. Истина и, соответственно, счастье. Да, потом-то я понял, в этом как раз и состояло счастье, сказочное счастье, которое я испытывал на улице Монторгей. Только понял слишком поздно. А ведь были же у меня примеры прямо перед глазами, Роза и Эжен, которые жили под подмостками. И я жил возле них. И я тоже жил внизу. Но не понимал этого. Молодость глупа, это известно. Впрочем, система коварна. Решетка скрыта от глаз. Какой-нибудь пустяк, и, глядишь, уже попался. Расслабился, позволил себе пожить немного полнее, чем другие, и вдруг ступенька скользит, уходит из-под ног. Ты продолжаешь, поднимаешься всего на палец над другими, а решетка тут как тут, уже зацепила тебя за волосы.
Что меня погубило, так это, трудно просто поверить, игра в вист. Именно игра в вист. Потому что я играл немного лучше других. Ну не глупо ли? Я был мокрицей. Был счастлив, как мокрица. А потом я позволил вставить себе это перо в свою шляпу. А мокрица с пером — это, смею вас уверить, это конец счастью.
Тут была и ошибка Эжена тоже. Но он об этом не знал. Этот человек любил карты. Каждый вечер он ходил в кафе «Улитка», что на улице Гренета, поиграть там с другими завсегдатаями. И в конце концов привел туда и меня. Хочу сказать, что раньше карты для меня ничего не значили. Но как-то раз в кафе, где я был с Эженом, мне захотелось тоже сыграть. Мне не хотелось выглядеть хуже других. Я старался. К тому же, я думаю, у меня подходящий для этого склад ума. Я человек собранный. Не горячусь. У меня есть память. Короче, прошло немного времени, и я стал отличным игроком. И, благодаря этому, стал в «Улитке» чем-то вроде важной персоны. Меня ждали, чтобы начать партию. Со мной консультировались игроки, сидевшие за другими столами.
— Мажи, взгляни-ка на мои карты. Это большой мизер или барахло?
Я указывал, мудрый и проницательный, на короля бубен.
— Но он же четырежды защищен.
— Все равно есть риск.
— Ладно, господа, раз Мажи запрещает мне большой мизер, я — пас.
Если я пропускал какой-то вечер, на следующий день мне напоминали об этом. Однажды я услышал, как хозяйка сказала:
— О! Господин Мажи — это человек.
И меня распирало от гордости.
— Это — человек.
Я не видел подстерегавшей меня опасности. Я еще не знал, что как только кто-то высовывает нос немного дальше других, система подстерегает его. С того момента, когда голова начинает возвышаться над другими головами. Как в поезде. Начинаешь изображать из себя что-то, высовываешься в окно, и раз, оглянуться не успеешь, как тебе заедет столбом по физиономии. Играл бы я кое-как, до сих пор сидел бы еще в «Улитке» среди людей, среди гвалта, глядел бы на клубы дыма вокруг белых колпаков, прикрывающих электрические лампы, на зеркала, на официантку, которую каждый норовит ущипнуть, слушал бы стук бильярдных шаров в глубине зала. Счастье, да и только. А вместо этого…
Мной восхищались — вот корень моего несчастья. Мне могут сказать: восхищались только из-за какой-то игры в вист, надо же. Так или иначе, НО МНОЙ ВОСХИЩАЛИСЬ. Что бы ни вызывало восхищение, это все равно восхищение, а восхищение помогает жить, помогает самоутверждаться в жизни. А когда начинаешь жить, то уже не знаешь, где остановишься. Разве не нечто подобное случилось с Наполеоном? Я знал и еще одного человека, некоего Лоссара. Им восхищались за его мужское украшение, за внушительные габариты. Тоже вроде бы пустяки. Но приятели говорили ему об этом. Делали ему комплименты. Это вскружило ему голову, и однажды полиция вынуждена была срочно вмешаться, когда он в большой пивной на бульварах, выложив свое украшение на тарелку, ходил от стола к столу и расхваливал его.
Я знаю, я уже писал об этом, что зависть моих однополчан пошла мне на пользу. Именно так. Потому что в тот момент мне нужно было чувствовать в себе уверенность. А вот на улице Монторгей я уже не испытывал в этом потребности. И потом, здесь все связано с пропорциями. Немного восхищения — я не имею ничего против. Но вот когда это выходит за рамки… Люди смотрят на тебя. Начинаешь жить уже в них, а не в себе, не знаю, понятно ли то, о чем я говорю. Начинаешь жить, в некотором роде, дыханием других. Как если бы вам вставили куда-нибудь трубку, а люди стали бы туда дуть. Раздувают тебя, раздувают. НО ОСТАЕШЬСЯ ЛИ ТЫ ПРИ ЭТОМ САМИМ СОБОЙ?
Вот как раз это я и стараюсь здесь объяснить. Разве не благодаря моему таланту, благодаря моему умению играть в вист я познакомился с господином Мазюром, и разве этот господин Мазюр не является отцом моей бедной жены, о печальном конце которой говорилось выше? Разве не так? Ну а тогда какой вывод?
Им, господином Мазюром, в «Улитке» тоже восхищались. Мной — из-за виста. Им — из-за его положения. Он был заместителем начальника отдела в министерстве здравоохранения. К его мнению прислушивались. Спрашивали его о положении дел в правительстве.
— Господин Мазюр, что думают в министерствах об этом Муссолини?
В общем, уважаемый человек. Как и я. Два украшения кафе. Два светоча. Это обожание в какой-то мере сближало нас. Если бы я играл неважнецки, Мазюр никогда бы не обратил на меня внимания. Не то чтобы он был гордым, дело вовсе не в этом. Скорее, он даже был веселым человеком, со своей вечной трубкой, которую вытряхивал, постукивая о каблук своего ботинка. Но когда он был там, с нами, было ясно, что по-настоящему его интересовали только двое или трое из посетителей: мясник, потому что тот был его мясником, Дюбрей, потому что он курил сигару, и я — из-за виста.
Он входил и говорил:
— Господа, добрый вечер.
Всем сразу, глядя вокруг.
Затем произносил:
— Господин Дюбрей! Мой дорогой Мажи!
Нюансик.
И вот однажды отводит он меня в сторону.
— Мой дорогой Мажи!
— Господин Мазюр.
— У меня есть дядя из Монтобана, который сейчас живет у меня. Он работает в Отделе регистрационного сбора. И он любит карты, только ему не хочется приходить сюда, играть в кафе. Он старый сибарит. Не любит утруждать себя.
У меня был оторопелый вид, как обычно. А тут еще все смотрели на нас.
— Давайте-ка, заходите завтра вечером к нам сыграть с ним партию-другую. Он тоже хорошо играет.
Я сказал:
— Ладно.
На следующий день я сообщаю об этом Розе.
— К Мазюрам? Ты, я вижу, не тушуешься.
В квартале их знали. Госпожу Мазюр, которая всегда ходила в шляпе.
— У тебя все пуговицы на месте?
Прихожу я, значит, к Мазюрам. О! Но там и шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на женщину. Прежде всего госпожа Мазюр…