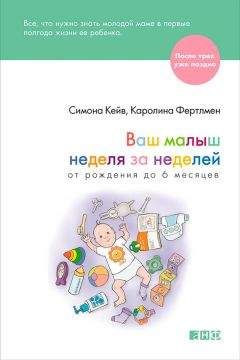Леонид Гартунг - На исходе зимы
— Сколько? — спросила Анна Леонтьевна.
Продавец, посматривая в окно, скучным голосом назвал цену. Он уже не надеялся продать кому-нибудь шубку.
Варя, услышав цену, огорчилась, принялась расстегивать пуговицы.
— Ты что? — спросила Анна Леонтьевна.
— Дорого, — шевельнула губами Варя.
— Это не твоя забота. Получите деньги. Но к шубке платок уже не пойдет. И шапочка нужна. И сапожки меховые.
Ни шапочки подходящей, ни сапожек в магазине не оказалось.
— Ничего, — успокоила Варю Анна Леонтьевна, — сапожки мне соседка продаст, они ей малы, а тебе будут впору. А шапочку сошьем.
Анна Леонтьевна если уж задумывала что-нибудь, то удержу не знала, обязательно своего добивалась. Сейчас запала ей мысль одеть Варюху, доставить ей женскую радость, чтоб на жизнь смотрела смелее, чтоб не стыдилась с Георгием по деревне пройти. А деньги — что деньги. Деньги для человека. Всего лишь, как учит политэкономия, овеществленный труд, стало быть, должны быть человеку покорны.
Но Варя вместо радости опечалилась.
— Неловко мне. Пойду — все смотреть будут.
— И пусть смотрят. И ты на себя посмотри. Вон красавица какая стала.
33Во вторник утром Ивана Леонтича вызвали на почту для разговора по телефону.
— Иван Леонтич? Ты? — прокричал в трубку голос Васицкого.
— Так точно. А ты что кричишь так сильно? Трубка лопнет…
— Как у тебя с открытием библиотеки?
— В эту пятницу.
— Тут писатель приехал. Тополев. Он будет на открытии. Собирается писать что-то для журнала. Так ты смотри, чтоб все в ажуре.
— Постараюсь.
Здесь же на почте Иван Леонтич узнал, что было письмо из Ленинграда. По пути в библиотеку зашел к Анастасии Андреевне. Встретила она его неприветливо. Как сидела за столом, сложа руки на коленях, так и не шелохнулась.
— Смотрю, что-то ты бриться часто стал.
— Ничего удивительного. Культуру соблюдаю.
— Что-то ты не особенно культуру соблюдал, пока девчонок не было.
— И это влияет…
— Седина в бороду, бес в ребро.
— Ты скажи лучше: от Валентинки письмо получала?
— Ничего я не получала.
Письмо Анастасия Андреевна получила, но решила Ивану Леонтичу его не показывать. Валентина опять настойчиво звала отца жить к себе, а этого больше всего боялась Анастасия Андреевна. Тут он был рядом, какой-никакой, а свой, и, хотя ссорились часто, все же надеялась, что в конце концов надумает он перебраться к ней, и тогда заживет она настоящим домом. А если уедет в Ленинград — тогда он потерян навсегда.
Завела разговор о другом:
— Анна-то тебя еще не выгнала?
— А за что? Веду я себя примерно.
— Кому б уж говорил…
В библиотеку Иван Леонтич пришел в смутном настроении, дышал тяжело, и сердце томилось. А работы предстояло еще немало. Правда, книги все уже были перевезены в новое помещение, но посреди читального зала лежала еще груда газет и журналов, да и много других мелочей не было сделано.
В старой библиотеке он проработал тридцать лет, и изба эта стала для него родным домом. К той комнате, которую ему выделили при клубе, он так и не привык. Она была узкой и высокой. Не любил он и своей широкой деревянной кровати. Сидя здесь в тепле, среди книг, он всегда с отвращением думал о той минуте, когда придет пора идти к себе, лезть под холодное тяжелое одеяло, а потом лежать без сна и слушать, как возятся мыши под полом. И всегда бывало печально, что еще один день кончился. А много ли их впереди.
34Васицкий подремывал на заднем сиденье газика. В поездку эту отправился он неохотно — во-первых, не хотелось ехать в такую даль, надоело бесконечное мотание по разбитым дорогам. Во-вторых, не хотелось встречаться с Иваном Леонтичем, надоели споры с ним из-за пустяков, надоело, что у старика всегда наготове возражения. Чувствовал он, что Иван Леонтич его за настоящее начальство не признает. Сам Васицкий привык к дисциплине, привык оказывать формальную вежливость начальству и ждал дисциплины от своих подчиненных. И, наконец, поездка эта была неприятна еще и потому, что обязательно предполагала встречу с сестрой, с которой Егор Егорович не любил встречаться по многим причинам.
Тополев сидел рядом с шофером, смотрел на дорогу сквозь ветровое стекло и старался узнать родные места… Иногда он называл вслух лог или поле, и шофер согласно кивал.
А потом вдруг пошли совсем незнакомые места. Вдали темнел лес. Чернели стога прошлогодней соломы.
— Лиса! — радостно вскрикнул Тополев.
— Что? — встрепенулся Васицкий.
— Лиса мышкует, — уже другим тоном, спокойно объяснил Тополев. Около стогов стояла неподвижно, настороженно худая, тощая лиса и спокойно провожала взглядом машину.
«Что это я — „Лиса, лиса!“ — как ребенок», — недовольный собой, думал Тополев.
— «Нет, не усну», — понял Васицкий и, чтобы чем-то занять время, сказал Тополеву:
— Несколько рановато вы к нам едете. Заглянули бы года через два-три. Мы собираемся создать в Берестянке образцовый очаг культуры. Для всего района. Сегодня открываем библиотеку, планируем новый клуб на пятьсот мест, с расчетом, что будут на праздники приезжать и из соседних сел. Широкоэкранное кино. Фойе. Большая сцена. Комнаты для кружковой работы.
— Повезло Берестянке, — сказал Тополев.
— Именно в Берестянке есть объективные условия, — продолжал Васицкий. — Колхоз богатый. Кроме того, в Берестянке хороший секретарь партийной организации. Он во всем идет навстречу и умеет убедить колхозников. Библиотеку, например, построили исключительно на средства колхоза. Сами построили, никто им не помогал. И вообще у нас тут места хорошие. Кстати, почему вы супругу не прихватили?
— Супруга умерла, — отвечал Тополев, смотря вперед на белый горизонт. — Скоро уже год…
— Извините, — сказал Васицкий.
Жена Тополева погибла в автомобильной катастрофе. Поехала на прогулку с друзьями, а в пути на них налетел МАЗ. Илье Николаевичу позвонили, чтоб он приехал в больницу, но к его приезду жена уже умерла. Увидев в мертвецкой что-то обнаженное, бледное, обмотанное окровавленными бинтами, Тополев потерял сознание. Теперь он старался не говорить о ее смерти и даже не думать…
— Это что? Колодлево? — спросил Тополев, привставая, чтобы лучше разглядеть показавшуюся впереди деревню.
— Это Берестянка и есть, — засмеялся шофер.
Тополева поразило и огорчило, что он не узнал родной деревни. Когда машина поравнялась с поскотиной, он тронул шофера за плечо.
— Останови. Я дальше пешком пройдусь…
Тополевым овладело нервное возбуждение. Все вокруг словно происходило во сне, где реальное мешается с тем, чего никогда не было. Сама улица казалась теснее и уже, хотя она, конечно, осталась прежней. Вот здесь находился колодец с журавлем. Или колодец был дальше? Да, пожалуй, дальше.
Навстречу медленно ехали сани. На санях стулья, ведра, детская ванна с книгами. Рядом, прихрамывая и держа вожжи в руках, шел мужчина. Взгляды их встретились. Мужчина остановил коня. Лицо его показалось странно знакомым. Тополев тоже остановился, всматриваясь.
— Вы не писатель, случаем? — спросил мужчина.
— Александр?
— Илья?
Тополев шагнул вперед, обнял брата, неловко поцеловал его в губы, затем в щеку, пахнущую морозом.
— Рука у тебя, Саня, как железная.
— А как же — к железу привычная…
— Значит, по отцовой линии?
— А как же… Сейчас вот только немного покалечился.
— Что такое?
— Пустяки. Познакомьтесь — моя жена. Екатерина. Катя.
Только теперь Тополев обратил внимание на женщину, которая подошла с цветком, завернутым в скатерть. Лицо ее показалось знакомым. И вдруг он вспомнил, кто она такая. Он уезжал из деревни в кузове грузовой полуторки, и вместе с ним ехал фельдшер и дед девчонки, которая попала под косилку. Она была вся забинтована — и лицо, и руки, и сквозь бинты просачивалась кровь; и девочка, сидя на коленях деда, все валилась назад, ослабевшая от потери крови, все подремывала, а дед будил ее, боясь, что она умрет во сне, тормошил…
— Ты, я вижу, куда-то перебираешься?
— Так ведь у нас радость — квартиру нам дали в бывшей библиотеке.
— С новосельем, значит?
— Цветы замерзнут, — сказала Катя. — Поехали.
Асаня тряхнул вожжами. Лошадь не спеша тронулась.
— Мы считали, вы несколько попозже… Не успели перебраться.
— Называй меня на «ты», — сказал Тополев.
— Отвык.
— За столько-то лет — немудрено, — сказала Катя.
— Позвольте, я понесу…
Тополев взял из рук Кати алоэ.
— Хороший цветок. Его и на раны и внутрь. Очень полезный, — пояснил зачем-то Асаня.
Когда подъехали к старой избе с голубыми ставнями, Тополев вспомнил: да, это библиотека… Отсюда, по сути дела, началась его сознательная жизнь. Этот бывший кулацкий дом — каким он большим и красивым казался когда-то. Теперь он поблек. Все в жизни блекнет: теперь не влекут к себе с прежней силой ни книги, ни женщины, ни далекие края… Мир вокруг тускнеет… В сущности, жизнь очень неинтересная штука.