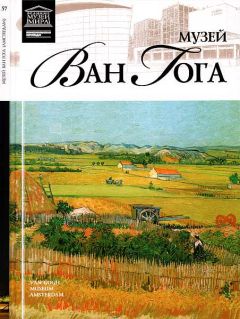Фрэнк Норрис - Спрут
Саррия схватил его за обе руки.
- Ты глуп, как дитя неразумное! - воскликнул он.- А то, что ты говоришь,- богохульство. Я это тебе запрещаю. Понимаешь? Запрещаю!
Быстро повернувшись к нему, Ванами выкрикнул:
- Тогда скажите своему Богу, чтобы он вернул мне ее!
Саррия отпрянул от него, ошарашенный этой неожиданной вспышкой, глаза его расширились от изумления. Лицо Ванами побледнело под загаром, вокруг глубоко сидящих глаз и на впалые щеки легли черные тени. Священник просто не узнавал его. Худое аскетическое лицо в обрамлении длинных черных волос и остроконечной бороды непрестанно подергивалось. Такие лица, наверное, бывали у вдохновенных пастырей древней Иудеи, живших близко к природе, у отшельников, у ранних израильских пророков, веривших в привидения, страдавших галлюцинациями, одаренных не-ооычайными способностями. И тут Саррия понял все. Подальше от людей, в широко раскинувшуюся, безводную юго-западную пустыню унес Ванами свое горе. Дни, недели, даже месяцы проводил он в полном одиночестве - песчинка, затерянная в необъятных просторах. Снедаемый горем, он неотступно думал о своей утрате и часто, случалось, оставался без еды. Его тело было истощено, мозг же, вечно сосредоточенный на одном, сам себя терзающий, окончательно расшатал и без того шаткую нервную систему. Постоянно пребывая в ожидании чуда или хотя бы знамения, он дал своему болезненному воображению полную волю, неизбежным следствием чего явились галлюцинации. Неудивительно, что очутившись там, где когда-то был счастлив, он при своей воспаленпой фантазии окончательно утратил способность трезво рассуждать и впал в совершенную истерику.
- Скажите своему Богу, чтобы он вернул мне ее,- твердил он зло и настойчиво.
Это была наивысшая степень мистицизма - больное воображение, преступившее дозволенные пределы и соскользнувшее в пустоту, где все казалось возможным, металось во тьме в поисках сверхъестественного, требуя чуда. И в то же время это был естественный человеческий протест против неизбежного, неотвратимого, бунт смертного против смерти, восстание духа против распада вещества.
- Он мог бы вернуть ее мне, если бы только захотел! - вскричал Ванами.- Отец, вы должны помочь мне. Послушайте, предупреждаю вас, я долго этого не
нмдержу. У меня что-то с головой, я уже не владею своим рассудком. Что-то должно произойти, иначе я сойду с ума. Ни мое тело, ни мой разум не могут больше этого выносить. Верните мне ее: пусть Бог вернет мне ее. Если легенды не врут, такие случаи бывали. Если она не может вернуться ко мне, дайте мне хотя бы увидеть ее такой, какой она была,- земной, настоящей, а не бестелесным духом. Я хочу увидеть ее прежней, неоскверненной. Если это сумасшествие, тогда пусть я буду сумасшедшим. Но помогите мне, вы с вашим Богом: пусть это будет галлюцинация, но сделайте это - сотворите чудо.
- Довольно! - снова вскричал священник и резко тряхнул его за плечо.- Довольно! Опомнись! Да, это сумасшествие, но я не дам тебе сойти с ума. Подумай
только, что ты говоришь! Вернуть ее! Разве таков промысл Божий? Я-то думал, ты мужчина, а это же речи неразумной бабы.
Ванами вдруг встряхнулся, глубоко вздохнул, посмотрел по сторонам отсутствующим взглядом, словно приходя в себя.
- Верно, отец,- пробормотал он - Порой я сам не соображаю, что говорю. Но бывают минуты, когда все во мне - и ум и душа восстают против того, что случилось, когда мне кажется, что я сильнее смерти, и знай я, как применить силу своей воли, сосредоточить напор своей мысли, желания, что я бы смог… сам не знаю… не вызвать ее… а что-то такoe…
- Болезненный, расстроенный ум может вызвать галлюцинации, ты это хочешь сказать? - спросил Саррия.
- Пожалуй, что так. Пожалуй, я довольствовался бы галлюцинацией.
Саррия не ответил, и долгое время оба молчали. У южной стены в сыром углу ритмично квакала лягушка, монотонно журчал фонтан и уроненный деревом цветок магнолии отвесно упал в безветрии и, чуть слышно прошуршав, лег на усыпанную гравием дорожку. Больше ничто не нарушало тишины.
Прошло еще несколько минут, и сигара священника, давно погасшая, выскользнула у него из рук и упала на землю. Он клевал носом. Ванами тронул его за руку.
- Спите, отец?
Саррия вздрогнул и потер глаза.
- Да, кажется, и впрямь задремал.
- Тогда идите спать. А я ничуть не устал. Пожалуй, еще посижу здесь немного.
- Да, вероятно, мне лучше лечь. А твоя кровать всегда для тебя готова. Когда бы у тебя ни возникла в ней надобность.
- Нет, я вернусь в Кьен-Сабе… только попозже. Спокойной ночи, отец.
- Спокойной ночи, сын мой.
Ванами остался один. Долгое время он сидел неподвижно, упершись локтями в колени и подперев руками голову. Проходили минуты - потом часы. Луна среди сияющих звезд взбиралась все выше. Ванами курил, сворачивая одну самокрутку за другой, голубой дым то неподвижным облаком стоял у него над головой, то сизой пряжей расползался над садом.
Но, находясь в этих старинных стенах, проникнутых романтикой и тайной, в этом уединенном царстве грез, где все говорило о прошлом, он не мог не поддаться очарованию старинного сада с его легендами, могилами, разрушающимися солнечными часами и замшелым фонтаном. Как только священник ушел, смятение духа, охватившее Ванами в начале вечера, вернулось снова, смущая разум и воображение. Скорбь железными тисками сдавила сердце, и любовь к Анжеле с новой силой пробудилась в душе; ему казалось, что никогда она не была столь глубокой, столь сильной, столь бесконечно нежной. Без сомнения, эти чувства пробудил и нем монастырский сад, до мелочей знакомый и ничуть не изменившийся с того времени, как они встречались пдось; это он так отчетливо воскресил Анжелу в его памяти. Пока что Ванами не решался приблизиться к ее могиле и, встав с места и заложив руки за спину, ;тшагал взад-вперед по узким дорожкам, мысленно перебирая в памяти эпизоды, происшедшие семнадцать лет тому назад. На скамье, с которой он только что встал, они с Анжелой часто сидели вместе. Вот здесь у разрушающихся солнечных часов он в первый раз поцеловал ее. А тут, у фонтана с его зеленым от моха бортиком, она однажды остановилась и, засучив рукав по самое плечо, погрузила руку глубоко в воду, а потом имнула и протянула ему для поцелуя, мокрую и прохладную. А вот здесь, наконец, под грушевыми деревьями они сидели из вечера в вечер, любуясь зеленой ложбиной и наблюдая, как сгущается ночь, постепенно от горизонта к зениту застилая небосвод.
Ванами поспешно отвернулся от открывшейся панорамы. В это время года цветочное хозяйство бывало обычно темным; цветов не было и в помине. В центре хозяйства Ванами различал домик, в котором жила когда-то Анжела: в окне его мерцал огонек. Но он тут же поспешно отвернулся. Его затаенная, все нараставшая скорбь достигла высшей точки. Широкими шагами пересек он сад и вошел в церковь, окунувшись в ее прохладу, как в ванну. Он и сам не сказал бы, что ищет здесь. Он знал только, что глубоко несчастен, что тоска по Анжеле гложет его сердце; ему нужен был кто-то, кому он мог бы отдать свою безмерную любовь. Он рад был бы ухватиться за любую иллюзию. Пусть галлюцинация, пусть мираж - он на все был согласен, лишь бы не одиночество в глухой ночи, не безгласная тишина, не убийственная беспредельность небесного свода.
Подойдя к алтарю, Ванами опустился под паникадилом на колени и, положив скрещенные руки на перила, уронил на них голову. Он молился. Какие слова он при этом произносил, о чем просил Бога, он не мог бы сказать,- скорей всего просто взывал о помощи, искал облегчения, жаждал ответа на вопль своей души.
На этом в конце концов и сосредоточился его расстроенный ум: на ответе; он требовал, он униженно испрашивал ответа. Не какой-то отвлеченной Божьей милости, не расплывчатого чувства умиротворения, а ответа, чего-то ощутимого, пусть даже это ощущение и будет иллюзорным: голос ли, отозвавшийся ему в ночи в ответ на его голос, рука ли, протянутая навстречу его руке, дыхание ли - земное, теплое, такое знакомое, нежное, которое отпечаталось бы тихой лаской на его осунувшихся щеках. В тусклом полумраке обветшалой церкви, с осыпающейся штукатуркой, с простодушно аляповатыми фресками и картинами на стенах, в полном одиночестве он неистово боролся с искушением, и слова, обрывки фраз, нечленораздельные, бессвязные, срывались временами с его плотно сомкнутых уст.
Но в церкви ответа не нашлось. Вверху, над высоким престолом смутно виднелась в сгущающемся мраке пречистая дева Мария с нимбом на голове, с потупленным взором, со скрещенными на груди руками,- краски поблекли от курений, которые возжигались перед ней из века в век. Христос, принимающий крестную муку, являл лишь печальное зрелище физических страданий - землистая плоть, испятнанная красным. Иоанн Креститель, Сан-Хуан Батиста, святи покровитель храма, крупный костлявый человек в звериной шкуре, подняв два пальца для благословения, бесстрастно уставился в полумрак под потолком, не намечая человеческой скорби, попусту бившейся о перила, ограждающие алтарь; и Анжела оставалась, как и раньше, лишь воспоминанием, далекой, бестелесной, на веки утраченной.