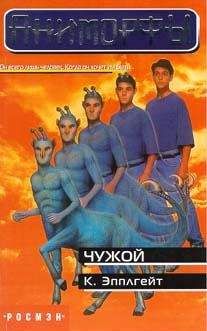Светлана Метелева - Чернокнижник (СИ)
— Ну — последний страж твоей совести, — не улыбаясь пояснила она. — Ты ведь на дело шел? А он тебя, значит, не пускал… Да? Получается — страж…
— Да ну, брось, — поморщился я. Терпеть не мог затасканную бытовую мораль. Странно — раньше не замечал за Таткой тяги к нравоучениям. — Нет у меня никаких стражей. Ни первых, ни последних.
— Ну, не знаю тогда, — безразлично протянула она.
Помолчали. Татка уселась на ковер рядом с диваном, достала ворох каких-то старых журналов. Начала разбирать.
— Терки ищу, — пояснила она, проследив мой недоуменный взгляд. — А то все кончилось.
— Думаешь, в этой макулатуре завалялись?
— Хрен бы знал. Мало ли. Вдруг найду.
— Что хоть это такое? Бабушкино наследство?
— Ага. Она кучу всего выписывала. Хочешь — возьми почитать. Там где-то статья была… про антиквариат. Ты же книгами старыми интересовался?
Да уж. Интересовался.
— Что за статья?
— Блин, Борь, я не знаю — сама не читала. Драга как-то нашел — там что-то вроде таблицы было, стоимость старинных книг и где продаются.
— Ух ты! Давай, вещь полезная.
Татка лениво протянула мне потрепанный журнал — страницы без обложки, помятые углы. Я свернул его, сунул в пакет, поднялся.
— Ладно, давай. Поехал я.
— Уже пошел? — Татка отреагировала вяло, не до меня ей было. — Ну, звони если что.
Глава 11. Затравленный
Май — сентябрь 1995 года.
Вышел от Татки и вздохнул полной грудью; почему-то в этот раз тяжело мне было в ее чудной квартире, точно затхлостью какой-то пахнуло — и от хозяйки, и от чашек-блюдец. Надоело. Все осточертело. Куда податься? На работу — смысла нет, воскресенье; больничный, щедро подаренный Киприадисом, кончается только завтра. Захотелось свежего воздуха, тишины. Поеду в Сокольники. Там хоть деревья есть. Заодно посмотрю, что за статью выдала Татка.
В парке народ пил и закусывал. Везде были голуби, эти ленивые помоечные куры, которых я с детства терпеть не мог. Минут двадцать искал место подальше от людей и птиц. Нашел, присел на скамейку, достал мятый журнал.
Про антиквариат ничего не было. То ли Татка ошиблась, то ли этот ее Драга хороший глюк поймал. Интересно было бы послушать, как нарик рассуждает про книги. На всякий случай еще раз просмотрел макулатурку.
…Сначала увидел название. Заголовок. Как я не заметил сразу? Не знаю… Я смотрел — долго, минут пять — просто смотрел; потом только понял. Статья в неизвестном журнале. «Жизнь и смерть великого гуманиста. Так ли утопична „Утопия“?»
Достал сигарету, закурил. «Мор идет по следу» — фильм третий. Смешно, но не весело. И — зачем было бежать из дома, от «Утопий», своей и чужой, от дневника и похороненного «нигде» монаха? Полная безнадега, словно я кружил в городском водовороте и все время натыкался на одну и ту же улицу.
Что делать? Что мне делать? Раскрытый журнал лежал передо мной на скамейке, легкий ветер перелистывал страницы, но потом, точно заведенный, возвращал их обратно — туда же, к этим же словам. «Жизнь и смерть великого гуманиста»…
— Ой, молодой человек, вам журнальчик не нужен, да? Может, тогда отдадите? А то нам костер развести нечем…
Передо мной стояла бабка в мохеровой шапчонке, черном пальтеце и почему-то в кроссовках. Кивала головой в сторону большой компании поодаль: на траве расстелена клеенка — булки, бутылки, рядом складень из веток и остатков тары; над ними шевелил руками почему-то молодой парень. Да, без бумаги не разгорится. Соблазн — большой, завораживающий: плюнуть на дурацкое совпадение (какое уже — десятое? Пятнадцатое?) — плюнуть и отдать бабке журнал. Не стал. Схватил груду листков без обложки, сказал:
— Нет, уважаемая, читаю.
— Ну, что ж, — нет так нет, — покорно согласилась бабка, заковыляла к своим. Услышал бормотание: «Читает он, как же! Книгочей! Старье пожалел, паскуда!».
Чуть не расхохотался — вот оно, истинное лицо человеческое. Сначала заискивающе доброе: ей от тебя что-то надо — вежливо просит. А как только откажешь — будто дьявольская рожа вылезает, так и норовит плюнуть в тебя или хоть гадость сказать. Почему-то стало легче. Выкурил еще сигарету — и начал читать.
…Томас Мор… Ага. Мать умерла рано — зато повезло с папашей: занимал разные должности, под конец жизни стал королевским судьей. Выдающиеся способности… обучение у какого-то кардинала…
Университет — опять дарования… Прям как я в молодости…
Общительный, веселый, — это, точно, про меня.
Почти всегда был один; отец не давал денег…
Стал юристом… — а я наоборот.
А, еще пытался усмирять естественные желания… Да говори, как есть: боялся баб, это у мальчиков бывает… Постился, надел власяницу? М-да… Пробовал пожить в монастыре — это знаю, сам видел: картезианский устав, правило молчания, брат Умберто. Да, так Умберто был на самом деле? Об этом нигде не написано… Жаль. Разочаровался в монашестве; вышел — женился. Молодец. Рано стал писать — стихи, эпиграммы, на латыни и английском. Вступил в переписку с гуманистами…
В это же время занимался адвокатской практикой. Вел дела — видно, хорошо вел — скоро прославился на весь Лондон… Потом — выбрали в парламент… Понравился королю. Какому? Генриху Восьмому; Синяя борода — тот, что имел привычку отправлять к палачу надоевших жен… Мор сопротивлялся королевским милостям долго — но в конце концов все же стал являться ко двору; потом поехал с посольством во Фландрию… С этого начинается «Утопия»…
Дружба с королем… Неудивительно: Генриху осточертела жена, Екатерина, и Мор хоть как-то его развлекает. Правда, недолго — вскоре при дворе появляется главная виновница смерти Мора — Анна Болейн. В каком смысле «виновница» — у них что-то было? А, нет, не по той части — хуже гораздо. Генрих решает развестись с Екатериной, чтобы жениться на Анне. Все его поддерживают, кроме Мора — он, как верующий католик, против развода. Сначала король относится к этому протесту ровно — Мора даже назначают лорд-канцлером. Ага… Король снова обращается к нему с вопросом о разводе. Упал перед Генрихом на колени, умолял не насиловать его совести — хорошо сказал, надо запомнить… Генрих пообещал, что больше не будет. В смысле — насиловать… Ха!
Занялся обязанностями — почему-то — негромкими, малозаметными делами. Ежедневно заходил к своему отцу и с преклонением колена испрашивал его благословения. Сильно…
Обнаружил деловитость, неподкупность, энергию… Привел в порядок запущенные дела своих предшественников. Но все это, конечно, не то. Почему «не то»? Потому, Боря, что от великого гуманиста, державшего в своих руках государственную печать Англии, и написавшего «Утопию» можно было ожидать большего. А вот еще… несколько процессов по еретикам. Говорят, кого-то даже отправил на пытки. Но вроде не сжигал…
К этому времени, король-таки развелся. Мор ушел с поста, сдал печать…
«В силу парламентского акта, признавшего законность брака с Анной Болейн, все подданные его величества должны были принести двойную присягу. Собрали лондонское духовенство; туда же потребовали и Мора. Предложили ему подписаться. Он заявил, что не порицает тех, кто составил формулу присяги и тех, кто соглашается присягать, но ему совесть не позволяет этого сделать. Мора арестовали и отправили…»
…Черт, где следующая страница? История обрывалась как всегда — на самом интересном месте! Дальше листы были выдраны; потом пошли какие-то «Экзи…» — язык сломаешь — «Экзистенциальные страхи и предощущение смерти», тьфу, не к ночи будь сказано.
Ноги затекли, захотелось есть. Пошел купил чебурек — возвращаться? Нет, пройдусь. Странно — биография сэра Томаса Мора как-то успокоила. Понял, почему: впервые увидел гуманиста не изнутри, а — снаружи; не Видением он шагнул ко мне — неоконченной журнальной статьей. Вроде как — со стороны посмотрел; не из глубин времени, вечности, второго «я»; а — как все, как обычный любопытствующий, как посторонний. Лорд-канцлер стал ниже ростом — как будто чужие комментарии приблизили великого гуманиста к земле.
Надо разобраться. Надо осмыслить. Проанализировать — да, именно, удачное слово. Шел не спеша — куда, не знаю; не важно — вышел из Сокольников, свернул в переулок.
…Великий гуманист… Сэр Томас Мор… Почему, собственно, гуманист? А кто они вообще такие — великие гуманисты? Те, кто пишет что-то великое и гуманное? А если не пишет? А, к примеру, говорит? Ведь был, скажем, на Руси Василий Блаженный, обозвал Бориса Годунова Иродом… Тоже — гуманист? Выходит — да. А если бы сэр Томас Мор дал клятву — как все? Был бы гуманистом? Или — нет? А если нет, получается, гуманистом назвали его не за то, что он говорил, а потому что — молчал. И за это же казнили — так? И тут я наткнулся на странную мысль: а ведь и меня вытолкнули из узаконенной жизни — за недосказанное. Если бы, прежде чем гнать порожняк про партийную организацию и преступную группу, я бы словесно расшаркался — «одна сволочь предположила, категорически не согласен» — то как? Может, все бы и обошлось. Попеняли бы, поставили на вид, что, мол, не с теми людьми общаюсь и не то, что нужно, читаю — и пошло бы все дальше, по накатанной. Комментатор заметил однажды: евреи — умные люди, жаль, у них не хватает ума скрывать свои мысли. Про евреев не знаю. А вот на что у русских не хватает ума — скрывать свои шутки…