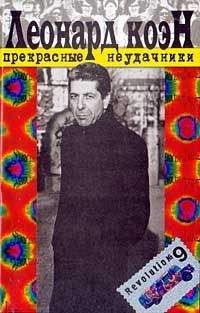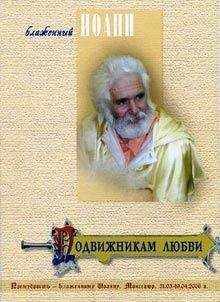Альбер Коэн - Любовь властелина
— Довольно! — приказала она. — Ты слышишь, довольно! Хватит кашлять!
Поскольку он продолжал свой безутешный кашель, она подошла к нему и дала ему пощечину. Он улыбнулся, скрестил руки, приняв удивительно безмятежный вид. Все идет как надо.
— Истинная арийка, ну конечно, — довольно прошептал он.
— Прости, — сказала она, — я уже не ведаю, что творю. Прости меня.
— При одном условии. Мы поедем в Женеву, и ты переспишь с ним.
— Никогда!
— Но ведь ты делала это! — загремел он. — Ах, я понимаю, — помолчав, улыбнулся он, — ты боишься, что тебе понравится! Нет уж, ты сделаешь это, я требую! Я требую, чтобы ты переспала с Дицшем, дабы потом мы могли жить без лжи, все трое. И еще для того, чтобы ты поняла, что с ним вовсе не так замечательно, как ты себе представляла. Переспишь или нет? От этого зависит наша любовь! Отвечай, переспишь?
— Да, хорошо, пересплю!
Она подошла к окну, высунулась. Она боялась не смерти, а пустоты, и еще того, что в воздухе, во время падения, она будет представлять, как разобьется ее голова об асфальт. Она поставила колено на подоконник. Он рванулся к ней. Она качнулась взад-вперед, чтобы дать ему время ее удержать. Когда он схватил ее, она стала вырываться, вдруг наконец решившись убить себя. Но он держал крепко. Она повернулась, они стояли лицом к лицу, она с ненавистью глядела на него. Он справился с желанием поцеловать ее губы, которые были так близко, закрыл окно.
— Значит, ты считаешь себя честной женщиной?
— Нет, я не считаю себя честной женщиной!
— Почему же тогда ты меня не предупредила? Почему ты не сказала мне тогда в «Ритце», что благоразумно было бы, прежде чем начать встречаться, попросить моего предшественника сдать кровь на реакцию Вассермана? Я, однако же, изрядно рисковал.
Она бросилась ничком на кровать, зарыдала, уткнувшись лицом в подушку, ее бедра и ягодицы тряслись. О, эта любовная тряска с Дицшем, тряска честной женщины, которая любила его. Конечно же, он знал, что она честная женщина и любит его, это-то и мучило больше всего. Женщина, совершавшая с другим непристойные движения, была честна и любила его, была той невинной деточкой, что рассказывала ему с ребячливым восторгом историю про савойскую крестьянку, которая делала вид, что жалеет свою корову Ночку, и говорила ей: «Бедная Ночка, кто побил Ночку?», — на что умная корова отвечала жалобным мычанием; эта же самая женщина, чьи бедра и ягодицы двигались в такт бедрам и ягодицам седовласого типа, представителя той расы, что убивает евреев, эта же самая женщина так простодушно наслаждалась своей нехитрой историей; он хорошо помнил, как она рассказывала, говоря для достоверности: «Бедныя Зорька, хто побив Зорьку», — как говорила сама крестьянка, а потом его обожаемая маленькая девочка Ариадна изображала корову, которая, чтобы ответить, что да, ее побили, говорила «му-у, му-у», и это был лучший момент во всей истории, и самым чудесным было, когда они оба тогда, в Женеве, мычали «му-у, му-у», чтобы прочувствовать как следует соль истории, чтобы постичь всю хитрость Зорьки. О, какими они были глупыми, беспечными и веселыми тогда, словно брат и сестра. И та же самая сестра, та же самая маленькая девочка давала в себе убежище ужасному мужскому органу другого, и ей это нравилось!
— Встать! — приказал он. Она обернулась, медленно встала, подошла. — Давай, пошевеливайся!
— Что ты еще от меня хочешь? — спросила она.
— Танец живота!
Она отрицательно мотнула головой, глядя в одну точку, сжав кулаки. Дрожа от ярости, он закусил губу. Вот так значит, он просит всего лишь скромный танец живота, только живота, и даже этого его лишают! Но с тем, другим, танец чресел — как только тот захочет, столько, сколько тот захочет! Ох, эти движения бедер и ягодиц под шимпанзе с белой головой, она прижимается к этой голове! О, два подлых существа! О, эта сука и ее кобель, эти два пыхтящих зверя, их потные слияния, их запахи, их выделения.
Она кашлянула, и он увидел ее. Эта сука, еще недавно трепещущая от страсти, зазноба Дицша, бледная, похудевшая, такая жалкая, смертельно уставшая, со сжатыми кулачками, отважными маленькими кулачками, такая жалкая в этом плаще, комбинации, спущенных чулках, с раздутым носом, распухшими от слез веками, с синяками под прекрасными глазами. Бедная, бедная его крошка. О, проклятая любовь тел, проклятая страсть.
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
Не выключенная с вечера люстра струила свой мрачный свет в комнате, хотя полуденное солнце пробивалось сквозь задернутые занавески. Лежа в кровати с открытыми глазами, не шевелясь, он слушал звуки живых из внешнего мира, следил за маленькими активными тенями, двигающимися по подоконнику вверх ногами, маленькими силуэтами, стремящимися по своим честным делам. Ну вот, снова Женева, снова «Ритц».
Стараясь не коснуться, он склонился и посмотрел на нее, на нелепую накрашенную девочку, которая спала рядом с ним или притворялась, что спит, надышавшись эфира, жалкая в своей теннисной короткой юбчонке, носочках и тапочках на низком каблуке, чтобы казаться ниже, с детскими локонами, с розовым бантом.
Он взял флакон с эфиром, который она прижимала к себе, открыл, вдохнул. Она обернулась, пробормотала, что тоже хочет, несколько раз вдохнула, отдала ему флакон. Не смотрите на меня, прошептала она, сжалась, закрыла глаза. О, каникулы в горах с Элианой, шале, стук молотков по железу. О, эти чистые звуки в кристальном воздухе, летние звуки, звуки детства.
Она выпрямилась, стараясь не касаться его, посмотрела на маленький будильник, сняла телефонную трубку, заказала завтрак. Нет, не на стол, только поднос, спасибо. Положила трубку, взяла у него эфир, глубоко вдохнула, закрыв глаза, отдавшись входящей в нее сладковато-холодной струе. Вчера, на улице, жена Канакиса смотрела на нее с жадным любопытством, но не поздоровалась. И еще недавно кузина Саладин сделала вид, что ее не заметила. Они играли вместе, когда были маленькие. Я ей дала поиграть куклу, а она мне так и не вернула. Может, позвонить и напомнить?
— Оставьте поднос за дверью, я заберу.
Она встала, взяла блюдо, поставила его на кровать, вновь легла. Держась подальше друг от друга, они ели, не говоря ни слова, в тусклом полумраке, а вокруг них зигзагами кружила настырная муха и гудела с невыносимым чувством превосходства, наглая, яростная и упрямая, уверенная в своем праве, гордая своей назойливостью. В тишине лишь клацала порой вилка по тарелке или звякал стакан; оба жевали, с тихими унизительными звуками перемалывая зубами пищу. Рядом с ними в солнечном круге, отражении серебряной крышки на стене, медленно и церемонно танцевали сверкающие пылинки. Она двинула коленом крышку, чтобы круг переместился на потолок. Это тоже Элиана, игры их детства. Они забавлялись карманными зеркальцами, ослепляя друг друга, это у них называлось солнечные битвы.