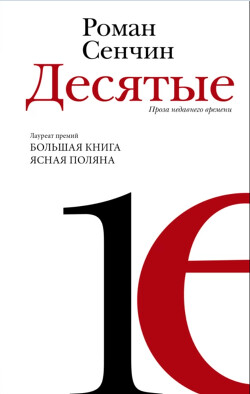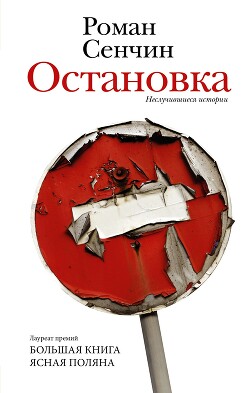Девяностые - Сенчин Роман Валерьевич
А сегодня просто битком…
Открыл Коля Головин, молодой пейзажист, в прошлом году закончивший Суриковское училище. В квартире гудеж многих голосов, воздух уже в прихожей мутный от табачного дыма, пропахший спиртом.
– Отдыхаете? – обрадовался Сергей, раздеваясь. – А где мать Санина?
Коля скорее утомленным, чем пьяным голосом выговорил:
– В больницу легла… мы вот и… пять дней уже…
Двухкомнатная квартира. В зале, который занимает Санина мать, спят сейчас на диване Решетов и резчик по дереву Володька Шаров. В другой комнате, где обиталище Сани, несколько ребят в темноте слушают африканскую музыку. Предложили и заглянувшему к ним Сергею присоединяться, но он поспешил на кухню, где пили и вели оживленную беседу Олег Девятов, однокашник Сергея по училищу, единственный, кажется, в Минусинске рок-музыкант Андрей Рюпин, занимающийся понемногу всеми видами творчества и во всем сомневающийся Олег Филатов, молодой писатель, а в основном газетный репортер Роман Сенчин, а их слушал и глотал поминутно водку декоратор театра Миха Петраченко.
На Сергея, увлеченные спором, почти не обратили внимания; Олег Девятов механически протянул ему стакан, а Петраченко подвинулся на лавке со словами:
– Садись, отстёгивай тапочки. – То есть: давай расслабляйся.
Филатов, бурно жестикулируя, говорил, обращаясь к задумчиво поглаживающему свою пышную бороду Олегу Девятову:
– …Если б я имел все прибамбасы, я б таких вам картинок наделал! А эти вечные поиски, нытьё, что холста нет, красок, – ремесло это просто-напросто, понимаешь! Вот пришло к тебе вдохновение, идея какая-то, а материала под рукой нет, и вот бегаешь, ищешь, как идиот. Нашел, сколотил, натянул, глядь – на это всё вдохновение и ушло. Нет, я сейчас больше склоняюсь…
– Э-э, не понимаешь ты! – перебил его Девятов. – Никому я не доверю за меня холст натягивать, тем более грунтовать. Ты что! Для меня лично, да и вот Серега, скажи, – это главное, а вдохновение уже – дело пятое. И вообще, человек должен пребывать в состоянии постоянного вдохновения. Можно начать с левого нижнего угла – и такая вещь получится, что сдохнут все.
– Это… Ха-ха!.. – засмеялся Роман, – как книжку писать – набор каких-нибудь слов, авось что-то в конце концов выйдет!
Олег Девятов обиделся:
– Живопись, понимаешь, это не проза. Она ближе к стихам. Только в стихах все-таки больше рамок, а живопись – самое свободное искусство…
– То-то стихи, ха-ха-ха! – не мог Роман успокоиться, – стало читать невозможно, что их с левого нижнего…
– Да погоди ты, послушай!.. – повысил голос Девятов, готовясь что-то объяснить.
Сергей выпил, закусил остывшей китайской лапшой, обильно посыпанной сигаретным пеплом. Курил, слушал, опять выпивал… Коля Головин, сидя на полу возле холодильника, дремал; измученный алкоголем и нелюбимой работой декоратор Петраченко о чем-то размышлял, подперев голову руками. Андрей Рюпин мягко перебирал струны гитары, напевал неразборчиво…
– Поэзия вообще, в принципе, изжила себя, это теперь удел эстетов и литературоведов всяких, – рассуждал Роман Сенчин, не замечая попыток Девятова заговорить. – И это, конечно же, потому, что поэтов настоящих нынче нет, все чего-то вымучивают, экспериментируют, стебаются. Скоро слова задом наперед начнут выворачивать…
– Слушай, что ты мелешь?! – вскричал, очнувшись, Олег Филатов. – Как это, блин, изжила? Если ты не следишь, ни фига не читаешь, так и не суйся. Сейчас как раз такой подъем происходит!..
Девятов в свою очередь перебил тезку:
– Мне лично достаточно и древнего. Вот японцы с китайцами еще тыщу лет назад всё сказали, теперь только повтор.
– Ха! А греки…
– Греки – дерьмо! Идеи еще более-менее, но форма…
Спорили, торопились, перебивали друг друга. Казалось, они долго перед этим молчали, годами вынашивая в себе мысли, принципы, и теперь настал момент, когда можно наконец-то выговориться. И вот захлебываясь принялись доказывать, точно могут не успеть сказать всего, что скопилось…
– …Конечно! А как ты думал?! Форма во сто крат главнее идеи. Идея сама по себе – любая! – банальна давным-давно. Но если форма подачи заинтересует…
– А, ну что ты опять!..
– Милые, давайте ж лучше выпьем! – громко, страдальческим голосом предложил Петраченко, разливая водку по разнокалиберной посуде. – Что ж так-то кричите вы? Все равно с артистами никому не сравняться – ни поэтам там, ни нам, грешным художничкам. Это ж ведь!.. – говорил он, подчеркивая свой непонятно какой акцент, и в этом чувствовалось актерство. – Ведь артисты, это ж нечто вообще особенное. Это, простите меня, червя, это ж и не люди даже…
Петраченко залпом выпил, бросил в рот ложку лапши. За столом молчали – он говорил нечасто, речи его уважали.
– Это каки-то… Вот послушайте. Есть у нас молоденька девочка-милочка, и играет таку же молоденьку девочку-милочку. И по роли у нее слова есть: «Я люблю вас!» Таки слова – вдуматься только: «Я люблю вас!» Ась? Это ж верх всего, это ж человек раз в жизни говорить должен, вот так вот говорить, и то не каждый способен. «Я люблю вас!» А она говорит на кажном спектакле! И так говорит слова эти чёртовы, что все верят, весь зал, как струна, вытягивается. Мать-то перемать ее!.. – Петраченко тяжко вздохнул, подлил в свой стакан еще. – И я нарочно из кандейки своей выползаю, когда говорит она, и слезы ж у меня выступают, и верю я, забываю, что спектакль-то, что девочка эта милочка артистка простая, что после спектакля – совсем другой становится человек. Как то понять? Ась?.. Мне она, мне говорит: «Я люблю вас!» Зачем тогда со сцены уходить, жить как мы, черви земные? Други роли играет, совсем друго говорит. Как можно сегодня: «Я люблю вас!» Аж душа перевертыватся! А завтра како-то зайчика глупого изображать… Эх, давайте ж по маленькой!
Выпили, посидели молча.
– Артисты, Миха, артисты, это марионетки, – первым заговорил Роман, – а корень проблемы в тех, кто придумывает для артистов их роли, слова. Вот с кого надо спросить… я вот писатель…
– Неважный, – добавил Олег Филатов.
– Да, допустим неважный, плохонький, но все же. Так получилось, что не могу не писать, ненавижу себя за это, а не писать – не могу… Вся жизнь от этого ломается, люди все кажутся какими-то… не могу их искренне воспринимать, говорить не могу правдиво, даже с девушкой объясниться. И сейчас сижу и думаю: надо вот это запомнить, вот то, вот моментик неплохой, вот выраженьице пригодится…
– Да это уже и до тебя миллион раз говорили, – отмахнулся Андрей Рюпин и объявил: – Счас я вам одну вещь спою. Всё поймете!
– Минуту!.. Мне плевать, что там кто миллион раз говорил. Это для меня, – Роман выделил «для меня», – важно! – Он повысил голос, когда рок-музыкант попытался его перебить, и потянулся к нему, найдя в нем оппонента. – Артисты, они лишь исполнители, их надрессировали, они и говорят, а причина в нас, в писаках. Писатель, это такое… знаете, это как глист – сидит в пищеводе жизни, пасть раскрыл, и в него всё сыплется. А он перерабатывает и выдает ложь. Ненавижу я писателей… А художников люблю!..
– Они тоже хороши, – не согласился Олег Филатов. – Да и везде ложь, во всём. Все равно не выразить по-настоящему, что изначально задумывал. Поэтому, – он вздохнул, – теперь ничего не делаю, всё противно. Не хочу.
Сергей подавил усмешку – действительно, ему, почти еще трезвому, смешно было слушать эти рассуждения, заявления ребят. Тем более он знал: выйдя из запоя, оклемавшись, все они примутся за старое. Один – писать свои рассказы, другой – сочинять стихи и красить картинки…
– Все не хотят, – буркнул Девятов, – а что-то внутри сосет, тянет… я два года почти своим не занимался, на халтуре плотно сидел: вывески, стендики. А вот зимой купил цветной ленты, чтоб с красками не возиться, да и вообще – вывеска из ленты получается четкая, видели же. Классно?.. Ну и сначала из обрезков…
Рюпин, монотонно постукивая ногтем по струнам, опять предложил:
– Хотите всё понять? Счас я вам спою!..