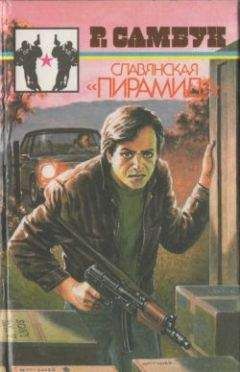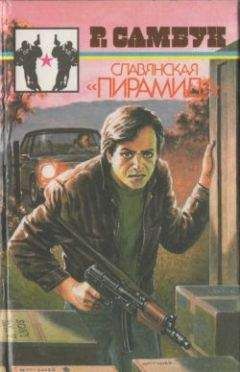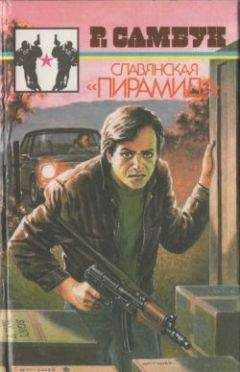Феликс убил Лару - Липскеров Дмитрий Михайлович
– Что? – уточнил Протасов.
– Не что, а кого? – спикер открыл бутылку шампанского выстрелив пробкой в небо. Хлебнул из горла и напарнику передал. – Киргизский народ родил всей своей вагиной меня, Умея Алымбекова… Президента Мира… – еще раз хлебнул, закашлялся, влив шипучку не в то горло. – Шутка, Олежа, шутка-малютка!.. Поляки, так поляки. Свяжусь с Новаком!.. Кстати, а пацан этот, что с тобой был, идиот который, Абар…
– Абаз. Он козочку нашел, пасет ее в километрах двух отсюда. Раз в неделю за едой приходит… – Не успел Умей подумать о том, что мальчишку необходимо убить как можно быстрее, и тотчас, так же быстро, как родилась его мысль, услышал предупреждение: – Тронешь его – ничего у нас не получится! Не станешь ты Президентом Мира, Умейка…
– Что ты, Олежа, как можно, – отрекся от таких догадок киргиз, а сам подумал, что время наступит – и он этого русского своими руками превратит в бургеры. Или в Олежбурги. Сам загрилюет на мангале – мидиум реар, с кровью, намажет сверху медом и сожрет. Ишь, «Умейка»… Рашен швайн! Свинота! – Умей с Протасовым договорились, что именно киргиз будет представлять пчелиную революцию сильным мира сего, а русский будет осуществлять внутреннее прикрытие бизнеса. – Ты только воевать умеешь, капитан, а я дипломат!.. Премьер-министром мира хочешь? – предложил – и загоготал. – Купился?.. Опять шутка-малютка, Олежа…
Если бы дитя Кыргызстана узнало, какие мысли занимают русского партнера, то, вероятно, стал бы держать себя гораздо скромнее.
Умей взял с собой десять литров меда и отбыл в свое кара-болтанское поместье.
Абаз пас белую козочку, явившуюся в аул невесть откуда и как маленькое, пушистое облачко приземлившееся на его попечение. Он отводил ее все дальше от жилища, находя редкие островки свежей травки. Он так полюбил это нежное, мягкое создание, что даже спал с ней рядом, на одной циновке в степи.
А в ауле остался ослик Урюк. Ему было трудно понять, куда исчезли люди, особенно любимый мальчик Абаз. По летучему ишаку осел не скучал вовсе.
Иногда он пытался звать Абаза, но «иа» было слишком тихим, и на призывы животного лишь степной ветер шумно проносился мимо в бесконечном полете. Ослик вспомнил, что тоже когда-то летал! Он парил под звездным небом!.. Это были последние и прекрасные видения в жизни Урюка. Старый осел предлинно выдохнул – и умер. То ли от старости, то ли от тоски испустил дух.
9.
Абрам Моисеевич Фельдман сбросил темп бега лишь на вторые сутки. Он пробежал почти восемьдесят километров и искал водоем, чтобы наполнить водой свое животное тело, помыть его и что-то съесть. Зашел в одну почти заброшенную деревеньку, отыскал дом, из трубы которого вяло дымило, и покричал хозяевам.
На крыльцо выбралась пара пожилых лилипутов. Они смотрели на Фельдмана внимательно, особенно лилипут мужского пола, и оба испытывали взглядами чужой души потемки.
– Еврей? – спросил мужчина голосом мальчишки, у которого болит горло.
– Воистину! – подтвердил Абрам, поправив на голове кипу.
– Заходи! – разрешила лилипутка голосом сердитой девочки.
Семья бывших цирковых лилипутов, уехавшая доживать в деревню на чистый воздух, показала целое ведро воды в сенях, гость напился. Затем Фельдмана накормили настоящей говядиной.
– А правда, – поинтересовался маленький старичок, – что евреи Христа распяли?
– Правда, – подтвердил гость. – Не сомневайтесь.
– А за что?
– Я не знаю… – Горький опыт Фельдмана подсказывал, что ввязываться в такие разговоры вредно для здоровья, а соглашательская позиция делала его в глазах вероятных врагов нейтральным. – Две тысячи лет назад, говорят, это было… А вы каких кровей будете?
– Мы русские цирковые артисты!..
– Советские! Наша трупа работала в Кракове, когда все случилось, – уточнила жена. – Так мы в Польше остались доживать.
– А Сталин Троцкого убил! – зачем-то сказал Абрам.
– Знаем. Но мы ни при чем! – улыбнулся старичок.
– И я ни при чем! – Говядина была мягкой – грудинка, с прокладкой нежного жира. – Я про Христа.
– А у нас сын был. Молоденький. Офицер! – рассказала старушка. – Погиб как-то странно в чужой стороне, – она достала беленький платочек и промокнула кукольные глаза. – Давно уже. Нормального роста, даже выше вас, женатый. А внуков не успел…
Абрам вопросительно уставился на них:
– Разве у лилипутов бывают дети?!!
– Мы не лилипуты! – мальчишечьим злым голосом выкрикнул старичок. – Мы маленькие люди! Не гномы, не мальчики-с-пальчики, не смурфики! Просто маленькие люди!
– Миль пардон! – извинился Абрам.
– Маленькие люди!.. – поддержала мужа старушка. – И не изъясняйтесь дурными фразами, неуместными в этом доме! По-французски он! Скажите еще «данке-шманке-обниманке»! Француз!..
– Простите, – покраснел Фельдман. И что он так к этим людям? Вероятно, произошедшее двумя днями ранее напугало его так сильно – столько могущественных мира сего – а здесь два пожилых ребенка и мясо. Как будто расслабился он, избежал нехорошего. – Еще раз простите…
– Говорите по-французски? – спросил хозяин.
– Да, – признался Абрам Моисеевич.
– Видишь, Лара, человек просто говорит по-французски. Ничего дурного он сказать не думал. Он извинился на французском. Ты просто на нервах. Дать тебе валокордин?
– Не надо, Феликс! Все со мной будет хорошо. Сашу вдруг вспомнила…
Хозяева развели самовар с шишечками, поставили на стол простенькое печенье и пакетики с заменителями сахара.
Когда они уходили из труппы им вскладчину подарили целую коробку с такими пакетиками. К неоплачиваемой пенсии. С настоящим сахаром в мире обстояло совсем плохо. А директор Лазарь Лазерсон от лирических чувств отдал семье лилипутов миниатюрный мотоцикл с коляской – собственность цирка, – на котором они выступали семейным номером… На нем и ездили цирковые пенсионеры по сию пору, добывая пропитание на небольших местных ярмарках. Жонглировали кеглями и кольцами, смешили, изображая детей, ходили на руках и все такое, чему были обучены. У них имелись даже собственные плакаты, отпечатанные типографским способом, на которых по-польски было напечатано разноцветными буквами, что семья маленьких людей Бычковых развлекает польских детишек и их родителей.
– Непростая жизнь! – посетовал Фельдман, зевая в ладошку и сдерживая организм, чтобы не заснуть.
– Если ночевать останетесь, – прикинула Лара, – то за все про все… Тогда с вас тысяча пятьсот злотых!
Абрам тотчас расхотел спать. Думал, что маленькая старушка шутит, но у старика в маленьком кулачке был зажат маленький пистолетик, глядящий дулом прямо в левый глаз гостю.
– Бутафорский?
Феликс выстрелил в потолок. Сверху посыпалась щепа.
Последний раз Абрам Фельдман видел живые деньги много лет назад. И то пару мелких купюр. Он судорожно думал, как выпутаться из такой неожиданной ситуации. Еще он понял, что мир стал таким странным, перемешанным во всех смыслах. Страны перемешались с их границами, а особенно внутреннее устройство людей перестало прогнозироваться. Нет более понятия «хороший человек», как нет и «плохой». Нет границ четких между добром и злом. Добро покрывает зло как копировальная бумага. Пишешь доброе – а на конце все превращается в зло. И лилипуты тому пример. Накормили, рассказали о самом сокровенном – а сейчас, если он не расплатится, застрелят его, а потом, не дай Господь, да прибудет с Ним благость всего созданного, съедят кошерное тело еврея. Хотя какое оно кошерное, когда сей час не кошерной убоины наелся, а два дня назад… Он щелкнул замками и открыл саквояж. Сверху постиранных вещей лежал конверт, от которого исходил едва слышный запах клубного парфюма. Абрам приоткрыл бумажный козырек и увидел в нем купюры… Так вот что имел в виду человек, провожающий его из клуба Янека Каминского. Гонорар! Он сказал: «Гонорар»!
– Давайте все, что есть! – потряс пистолетом Феликс.
– Деньги? – уточнил Абрам.
– Есть что-то еще?
– Есть. Одежда, цицит, тфилин, личные штучки. Все белье стираное. Вы просили полторы тысячи злотых, они у меня есть. – Фельдман отсчитал из конверта сумму, не доставая его из саквояжа, и протянул купюры Ларе. Она ловко их проверила крохотными пальчиками с аккуратно подстриженными ноготками, и по ее глазам было видно, что она желает отобрать все, но пока еще не решилась окончательно на грабеж. – А вы сами в кого верите?