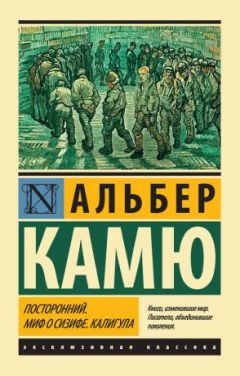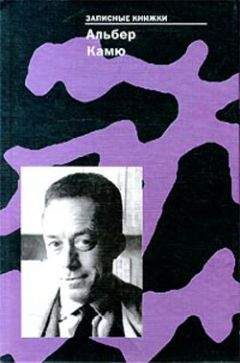Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
– А вы?
– Я верю в то, что время докажет нашу правоту, – сказала Раиса Михайловна, и глаза её заблестели сухим горячечным блеском. – Я верю в то, что ростки, нами, эсерами, посаженные, не удастся затоптать до конца, они непременно взойдут. В России наступит истинное демократическое народовластие, а большевиков с их приспешниками история попросту забудет. Я в это верю и хочу до этих времён дожить.
2
Потянулись дни настолько однообразные, что Осе иногда казалось, будто время остановилось, и она раз за разом переживает один и тот же длинный, скучный, бессмысленный день. Шафир заставляла её умываться, есть, двигаться, разговаривать, Ося бездумно подчинялась.
Ежедневно, с непонятным Осе упорством, Раиса Михайловна нахаживала по три тысячи шагов: полторы до обеда и ещё полторы после. В крошечной камере, семь шагов на три, она часами мелькала у Оси перед глазами, словно огромный маятник, подвешенный на невидимой струне. Ося закрывала глаза, но уши затыкать не решалась из вежливости, сидела на табурете и покорно слушала равномерное шарканье стёртых туфель по асфальту.
Каждый день приносили газету, обычно двух-трёхдневной давности. Шафир прочитывала её полностью, иногда по нескольку раз, пыталась заставить и Осю, но та заупрямилась, сказала, что не собирается засорять ни голову, ни душу, и Раиса Михайловна отступилась. Зато все четыре книги, что разрешили ей заказать из библиотеки, Ося прочитала от корки до корки. Книги были знакомые: Гоголь, Толстой, Тургенев и почему-то Джек Лондон, – но Ося и им была рада, гладила по корешкам, повторяла любимые строки.
На допрос её так и не вызвали. Поначалу ей даже нравилось, что её не трогают, но к концу второй недели радость сменилась тоскливым недоумением, и Ося не выдержала, спросила Раису Михайловну, в чём может быть дело.
– Гадать не в моих правилах, – медленно сказала Шафир. – Но происходит что-то странное, могу согласиться. Честно говоря, я думала над вашей историей, много думала, и кое-какие соображения у меня есть.
Либо они затевают огромное дело, и вы в нём всего лишь винтик, до которого пока не дошли руки. Либо они, как тут называется, подбирают ключи, в таковом случае вы отнюдь не винтик, а фигура первостепенная, можете сообщить им что-то важное. Тогда понятно, почему вас не посадили в общую камеру. Там проще и быстрее человека сломать, и стукача подсадить легче, но там много людей. И если вы сболтнёте что-то, чего этим людям знать не должно, будет трудно заткнуть всем рты, люди всегда найдут способ передать что-то на волю.
Впрочем, есть ещё и третий, самый простой вариант: где-то что-то меж стульев упало. Помните, как у Салтыкова-Щедрина: строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Лично я склоняюсь к этому варианту. Но всё-таки поразмышляйте на досуге, коего у вас много, чем вы можете быть им интересны.
– Я ничего такого не знаю, – пожала плечами Ося.
– Может быть, и даже скорее всего, речь не о том, что вы знаете, а о том – кого.
Ося тут же вспомнила Филонова, но вслух говорить ничего не стала. Раиса Михайловна, только что вернувшаяся с допроса, достала папироску, закурила, сказала задумчиво:
– Странные вещи происходят не только с вами. Меня привезли через полстраны, чтобы предъявить невероятное, нелепое обвинение.
– А в чём вас обвиняют? – решилась Ося задать вопрос, занимавший её с первого дня.
– Пытаются убедить меня, что я являюсь членом международного террористического центра. И чтобы сообщить мне этот бред, не поленились, привезли меня из-под Ижмы. Вы знаете, что такое Ижма? Слышали когда-нибудь? Правильно. Я тоже не знала, пока меня туда не сослали в тридцать первом году. Одна улица, две церкви, три сотни изб, две тысячи душ, примерно столько же болот вокруг. И одиннадцать ссыльных эсеров, средний возраст сорок два года. Центр террора, бобэ майсэс [34]! То ли они все тут с ума посходили, то ли следователь мой – полный идиот. Чуть зуб мне не выбил, на первом же допросе, заметьте.
– Зуб? – ахнула Ося. – За что?
– За строптивость, – усмехнулась Шафир. – Он меня спросил, признаю ли я себя членом террористического центра. Я ему отвечаю, что, к моему глубокому сожалению, такого центра больше не существует. Он, бедолага, чуть дар речи не потерял. Почему это «к сожалению», спрашивает, аж заикается весь. Да потому, говорю, что сейчас в нём необходимость даже больше, чем в царские времена. Он как раскричится, да долго так, слюной брызжет, по столу кулаком молотит, ну я и сказала ему, что в царские-то времена следователи себе не позволяли таких истерик. А он в меня чернильницей, и метко так, прямо в челюсть.
– Но зачем вам…
– Дразнить собак? А что ж, по-вашему, я должна молча терпеть, когда мальчишка, щенок, кричит на меня? На члена партии с девятьсот шестого года? Я ему в матери гожусь. Я при Советах в девятнадцатом сидела, в двадцать третьем, в тридцать первом, но такого никогда не было.
Она помолчала и добавила совсем другим, усталым и печальным голосом:
– И винить нам некого, только себя. Не смогли удержать власть, отдали её большевикам, и вот вам результат.
– Как отдали? – не поняла Ося. – Когда?
– Вот видите, и вы не знаете. Впрочем, вас можно простить, вам в семнадцатом сколько лет было, семь? В семнадцатом году, милая девочка, у партии эсеров было триста мест из семисот в Учредительном собрании. Самая большая российская партия, ПСР, миллион членов. И всё это мы умудрились прошляпить. Хвастались широтой взглядов, дискутировали, а большевики тем временем ставили инакомыслящих к стенке…
Она резко замолчала, словно захлебнулась, отошла к крошечному зарешеченному оконцу под потолком, в котором, если нагнуться и сильно вывернуть шею, можно было разглядеть кусочек неба.
Ося тоже молчала, не зная, что сказать. Политика никогда не занимала её, и газеты она читала, только когда Яник настаивал. Споры взрослых людей о разных «измах» казались ей не более серьёзными, чем споры девочек о том, как назвать новую куклу.
Про себя она делила людей на всех и других, и деление это было врождённым и пожизненным. Если ты родился другим, другим ты и оставался, даже если ты жил как все, говорил как все, думал как все. У других был иной взгляд, иной запах, нечто неуловимое, неопределяемое, но мгновенно распознаваемое большинством людей.
То, что она – другая, Ося поняла ещё в Киеве, а годам к пятнадцати смирилась с этой мыслью настолько, что даже и не пыталась стать как все. Судьбу не переделаешь, и Шафир, которая до сих пор, двадцать лет спустя, не могла спокойно говорить об Учредительном собрании и семнадцатом годе, вызывала в Осе одновременно и жалость, и насмешку.
– Проблема не в большевиках, – вновь заговорила Шафир, не поворачиваясь. – Фанатиков не так уж и много. Проблема в таких, как вы. В молчаливом большинстве, которое всё понимает, ужасается, но бороться с этим ужасом не собирается. В тех, которые сидят в углу и надеются, что лично их этот ужас не коснётся.
– Не каждый способен бороться, – возразила Ося. – Не все рождаются борцами.
Раиса Михайловна развернулась, подошла к Осе близко, почти вплотную, сказала, глядя прямо в голубые Осины глаза своими соколиными, тёмно-карими:
– Вы знаете, мой любимый русский писатель – Салтыков-Щедрин. Я вам его уже цитировала давеча, процитирую ещё раз, слушайте: «Равнодушие – это своего рода благо, за которое цепляются, в котором видят спасение! Ибо оно одно даёт силу жить, не истекая кровью и не сознавая всей глубины переживаемого злосчастия. Благо равнодушным! Благо тем, которые в сердечной вялости находят для себя мир и успокоение! Но пусть же они знают, что равнодушие обеспечивает не только их личное спокойствие, но и бессрочное торжество лгунов-человеконенавистников. И, сверх того, оно на целую среду, на целую эпоху кладёт печать бессилия, предательства и трусости».