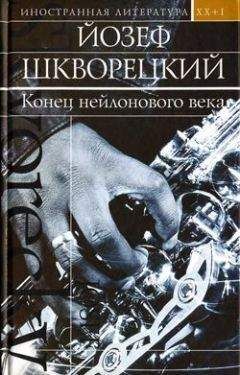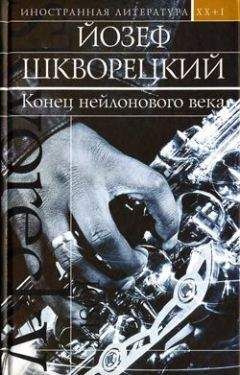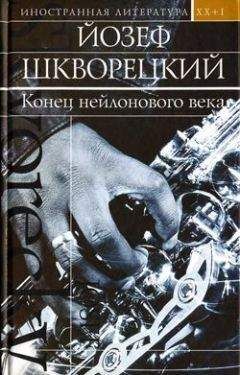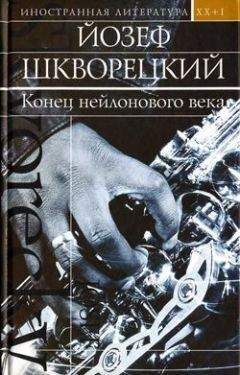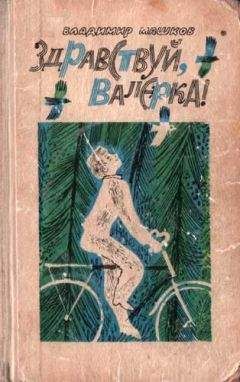Конец нейлонового века (сборник) - Шкворецкий Йозеф
Я остался стоять. Господин Каня достал из кармана портсигар, закурил. Я отвернулся. Изувеченные глаза старика смотрели на меня точно из страшной сказки; но у его ног, в черном гробу с порыжевшей плюшевой обивкой, покоился бас-саксофон. Дитя снова открыло глаза. Кукла заговорила. На клапанах большого корпуса, огромных, как украшения на конской сбруе, вспыхнул на мгновение солнечный луч. Я, бассаксофон, ответил старик. Ты слышал его когда-нибудь в деле? Голос у него – будто у колокола. Зер траурихь.[40] В витках этого скрипа человеческих голосовых связок я снова вспомнил о фельдфебеле – как он писал стихи в свою тетрадку на берегу Ледгуи; о живом отдельном человеке, «one-man unir», пропавшем в огромной битве; налезающем, словно неуклюжая черепаха, на блиндаж непонимания моей сестры; о том человеке, наверное, совершенно одиноком среди людей в униформе (то была не казарма СС, а обыкновенная немецкая казарма; но если даже и СС? Все могло случиться; пути нашей жизни неисповедимы); вероятно, уже никогда больше ни я, ни моя сестра его не увидим; я смотрел на этот печальный инструмент, а в голове всплывал образ незнакомого Адриана Роллини за проволочным пультом тех лет, печального, будто колокол. Энтшулъдиген зи, сказал я. Я спешу. А потом повернулся, чтобы в последнюю минуту спастись от этого предательства перед глазами господина Кани, но железная рука скелета держала меня твердо. Наин, ду бист нихьт![41] говорил голос, и я надел маску; всего лишь маску, под ней же скрывалось неуверенное лицо проблемы, и я еще не знал, какой. Ду гильфст мир мит дем саксофон![42] Я хотел вырваться, но из огромной двустворчатой двери отеля вышел массивный человек в мундире, остановился, расставив ноги, и подставил желтое лицо солнцу; лицо осветилось, как большая оранжевая лужа; в нем открылись два серых глаза, как у вампира Носферату, глядящего из своего оранжевого гроба. Наин, их канн вирклихь нихьт. Лассен зи михь лос,[43] сказал я, задергался в руке скелета, но тот крепко держал меня. Герр лейтенант крикнул, серые глаза посмотрели на меня; я вздрогнул; уголком глаза я видел господина Каню в безопасном месте, и мне показалось, что он согласно кивнул; старик что-то сказал мужчине с лицом упыря, – значит, это не произойдет добровольно с моей стороны; да, по принуждению. Почему вы не хотите ему помочь? спросил лейтенант. Он ведь старый человек. Айн альтер манн. Я посмотрел на него: огромный, но грустный, только маска военного; серые глаза сидели на интеллигентном лице, как северные яйца. Унд зи зинд дох аух айн музикер,[44] сказал он. Возьмите саксофон. Я взял. Железная рука отпустила меня. Я поднял черный гроб на плечо и направился за стариком. Интересно, есть ли у такого огромного, тучного человека записная книжка? Вполне возможно; правдоподобно. Он не заорал, не отдал приказ. Зи зинд аух айн музикер?
Итак, я понес бас-саксофон через гостиничный холл – он очень изменился с тех пор, как я был здесь в последний раз. Я вступил в другой мир и оказался уже не в Костельце; красные флаги с белым и черным образом злого солнца, бронзовый бюст того человека (потом, после войны, когда мы его разбили, оказалось, что он не бронзовый, а из папье-маше). Дама в мундире у стойки, несколько военных. Мимо них я нес бас-саксофон в черном футляре; немцы, не немцы – уже неважно; он из двадцатых годов; того человека тогда еще не было.
Потом, по кокосовому ковру – на второй этаж. Бежевый коридор, снова иной мир, мещанская мечта о роскоши. На кремовых дверях медные номера – и тишина. В тишину из-за какой-то двери бил резкий немецкий голос.
Старик – только теперь я заметил, что он хромой, приволакивает ногу; не потому, что не хватало ее части, но каждый раз, когда он ступал на другую, здоровую, больная нога не отрывалась от пола, а волочилась ступней поперек, шаркая по ковру и поднимая пыль, пока он снова не ступал на нее, – взялся за ручку двери с номером «12а» (насколько идеально безопасной должна была быть эпоха, когда боялись повесить медную цифру «13» на эти кремовые двери, чтобы не терпеть убытки, ибо путешествующий, наверняка на своем авто, явно богатый человек, если пользовался услугами городского отеля, отказался бы ночевать под несчастливым номером, сел бы в машину и поехал в безопасную ночь, в соседний городок, к другому кремовому номеру, к другой бесполезной, давно ушедшей, забытой ночи, – все и всякие, они ушли в забвение; и только цифра – «12а» – осталась), – старик взялся за ручку и открыл дверь. Я протиснулся со своим грузом внутрь и сразу подумал: почему сюда, в будуар с позолоченной мебелью? Ведь сюда не носят такие большие инструменты. Их место – в гримерке за сценой или около зала в глубине отеля. Почему же сюда? Может, какая-то ловушка? Западня? Но старик уже закрыл дверь, и тогда только я увидел на позолоченной кровати спящего мужчину, собственно – только голову; он лежал под покрывалом с голубой печатью отеля и чуть слышно дышал открытым ртом; глаза его были закрыты. Комната сияла, как золотисто-желтый лампион, солнце бабьего лета проникало внутрь желтыми лучами сквозь занавеси; барочное солнце над охваченными ужасом людьми, которым явилось привидение (не хватало только наивного образка с Мадонной и падающего кровельщика, которого она, призванная в нужный момент, благополучно спасает); но здесь не было привидения, если не считать допотопного инструмента, скрытого в гигантском футляре, – лишь мужчина на позолоченной кровати; голова с открытым ртом, слабое, хрипловатое дыхание легких, через которые, вероятно, прошли морозные ветры Восточного фронта или пески Эль-Аламейна и других мест в пустыне с названиями как из авторов эпохи поэтизма, с грудами выбеленных скелетов и изрешеченных песком шлемов, из которых какой-нибудь новый Иероним Босх сплетет рамы к новобарочным картинам в будущем веке тьмы, – и за этим слабеньким хрипом – лишь послеполуденная тишина сиесты, свет медных шаров на туалетном столике, совсем не подходящем по стилю к кровати, и розовый образок розовой девы с розовыми цветочками, представляющий, по-видимому, Иисуса Христа – и тишина; и в этой тишине – другой, отдаленный, филигранный, но опасный фыркающий голос. Я оглянулся на старика; мужчина в постели не двигался; один глаз смотрел на меня – тот, слепой, на щеке; старик тоже прислушивался к отдаленному голосу; и я понял: голос не был отдаленным, он звучал за стеной и, значит, опасно близко; снова я посмотрел на старика, на его второй глаз, и заметил в нем подтверждение опасности. Не страх, а лишь опасение; этот человек (оставшийся от Армагеддона призрак) был уже вне всяких страхов; он пережил слишком много смертей, и они ему уже безразличны; а чего еще бояться, если не страшны ни смерть, ни болезни, которых он пережил больше, чем смертельных опасностей. Оставалось лишь опасение, какая-то озабоченность. Альзо, сказал я, ауф видерзеен, и направился к двери; старик протянул руку, похожую на корень: Варте, сказал он, продолжая вслушиваться в этот сердитый карликовый голосок за стеной. Прошли десять секунд, тридцать, минута. Ихь мус шон, – но рукой, похожей на корень, он, не касаясь меня, лишь нетерпеливо дрогнул. Я посмотрел на футляр бас-саксофона. И тот нес на себе следы давних времен; таких, пожалуй, уже не умеют делать; с металлическими узорными уголками, как на бархатном переплете семейного альбома моей бабушки. Ду каннст дыр эс аншауэн, заскрипел голос из перебитых связок – голос старика, не голос за стеной; у того связки в порядке; их хозяин ими жил; если бы он их лишился или если бы на них появились узелки или колонии туберкулезных бацилл, это был бы для него конец, он не пережил бы свой голос, ибо голос ан зихь– источник его существования, общественного положения; только голос важен, не мозг, которому голос служил центром; над такими голосами мозговые центры не властвуют – они сами властвуют над мозгом; а голос старика сказал: Ду каннст дир эс пробирен, венн ду виллст аншауэн. Одер аух. Я посмотрел на него; глаза уже не следили за голосом из-за стены, а смотрели на меня почти ласково. Да, ответил я. Ихь мехте герне, абер… – и, посмотрев на металлические уголки, я отворил футляр. Барочные лучи погладили этот котел, эту лохань для стирки, весь в медной зелени после давно высохшей слюны музыкантов из баров. Да, дас ист айне сенсацион, выразил я свое высочайшее признание. Протянув руки к футляру, я поднял инструмент, словно помогая больному сесть. И он встал передо мной. Изделие из прочных посеребренных прутьев, решетка передачи, передаточные рычаги, рукоятки педали, как части какого-то огромного и совершенно бессмысленного агрегата, запатентованного сумасшедшим изобретателем. Инструмент возвышался в моих руках, как вавилонская башня, огромный конус, сужающийся кверху; в тусклых клапанах тысячекратно отражалось мое лицо, полное восхищения, надежды и любви. И веры. Это абсурдно, я знаю, но любовь всегда абсурдна, и вера тоже; он интересовал меня больше, чем какая бы то ни было философия, я восхищался им больше, чем даже, возможно, Венерой; безусловно больше, чем венерами костелецкой площади, чем любой другой – даже Милосской. Неиспользуемый и почти бесполезный инструмент, музыкальный кошмар, курьезная выходка давно мертвого человека, одержимого изобретением чего-нибудь вроде поршневых медных труб или металлических кларнетов; инструмент абсурдный, чудовищный, но прекрасный. Он вздымался, как слепая серебряная башня, облитая золотистым морем света, в золотисто-бежевом номере городского отеля, под моими робкими пальцами; а за ним – призрак Роллини на другом конце света, в Чикаго.