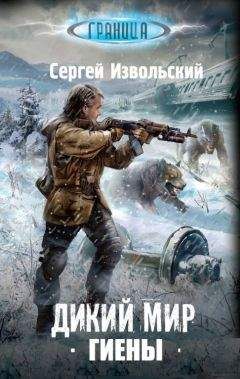Елена Катишонок - Против часовой стрелки
А дочка затеяла стирку. Настоящую, большую, как мамынька делает. Братья были заняты: то по очереди раскачивались на деревянной лошадке, которую смастерил отец, а то играли отшлифованными чурочками.
…Плита давно остыла, но девочка быстро развела огонь. Взгромоздила сверху бак, в котором мать кипятила белье, плеснула туда воды, после чего, встав на скамеечку, начала укладывать все, что подлежало кипячению. Матрена потом удивлялась, насколько безошибочно это было сделано, да могло ли быть иначе? — Ира так вошла в роль мамыньки, что покрикивала на братьев: «Прочь с-под ног, Хосс-поди помилуй, что за дети!», или: «Мотяшка, вон от плиты, кому сказано!» — и хмурилась совсем так же, вот только брови — в отличие от братьев — ее не слушались, хоть она старательно супила их, тоже совсем как мать. Девочка с трудом ворочала деревянной палкой тяжелое, сразу ставшее серым от воды белье, озабоченно подкладывала дрова в плиту и ждала ответственного момента, когда крышка бака медленно приоткроется и на плиту с шипеньем поползет пена. На полу лежала кочерга, дров хватало… Она заранее радовалась и гордилась, предчувствуя, как удивится мамынька. Завтра они вывесят все чистое и белое на дворе, и рубашки с кружевными прошвами будут беспомощно размахивать рукавами, а ветер надувать наволочки… Тихонько приподняла крышку. Наружу рванулся злой горячий пар, но девочка успела отдернуть руку; крышка с дребезжаньем упала обратно. Да, кипятить трудно, вот и мамынька всегда сердитая.
Она уже устала, но посадила братьев пить чай, дав по куску сахара, и они долго счастливо хлюпали. Уложила обоих спать и вернулась к плите. Крышка на баке изредка тяжело пританцовывала, изнутри выползал тяжелый пар; окно запотело. Подложив в огонь несколько поленьев, Ира взялась помешивать варку. Тяжелые влажные ломти белья не поддавались; беспомощно потыкала в них палкой, вытерла влажный лоб и села на скамеечку. А ну как не управится к мамынькиному возвращению? Пришлось кинуть еще полешко.
Она задремала, прислонившись к кухонной стенке, да так крепко, что пробудилась только от громкого дребезга. Мать вытаскивала обгорелое, безнадежно испорченное белье с черно-бурыми запекшимися струпьями, а местами прожженное насквозь. Воняло горелым.
Ничего более страшного до этого дня в Ирочкиной жизни не случалось. Мама не станет ее любить!
— Спорчено, — подтвердила Матрена, — все вышвырнуть. Такой срам и тряпичник не возьмет, — и грохнула с досадой крышку.
Обомлев, дочка бросилась к ней, обхватила тяжелый живот, заплакала громко и отчаянно о неудачной стирке, об утраченной мамынькиной любви и о том, как вырастет большая и сошьет ей много-много новых рубашек…
— На пчельник, — велела Матрена, что означало: спать, — ночь на дворе. — Повернувшись к мужу, который стаскивал у порога сапоги, кивнула на плиту: — Убери с глаз это паскудство.
Уснуть Ира не могла. Мать зашла проверить, хорошо ли укрыты младшие; подошла к ее кровати и перекрестила на ночь, легко касаясь пальцами; не уходила, а смотрела на нее удивленно, но не сердито.
Совсем не сердито.
— В другой раз воду лей, когда белье варишь, — неожиданно сказала она, — а теперь спи, прачка.
Детей не наказывали в общепринятом смысле слова, то есть не ставили в угол, не лишали развлечений, и без того считаных, — ничего этого не делалось. Поднятые брови матери или чуть сдвинутые — отца уже были наказанием, а если мамынькино лицо выражало недовольство или, упаси Боже, гнев, то и раскаяние было пропорциональным. Тогда, в детстве, Ира об этом не задумывалась. Повзрослев, навсегда сохранила любовь и благодарность к родителям за детство без унижений.
По-настоящему детское, то есть беззаботное детство кончилось, когда родился чернобровый мальчик, такой же пухлый и аппетитный, как калач, купленный папашей в трактире «Волга»; Ирочка все еще сжимает его в руке и смотрит во все глаза на брата. А скоро начинает помогать матери, да только много ли помощи от пятилетней?..
Но беззаботность кончилась: теперь она старшая дочка. Через год с небольшим на свет появился Андрюша, и забот прибавилось, но прибавилось и опыта у девочки. Надо было поминутно смотреть за Мотей, который не только норовил залезть в каждый угол, но и тащил в рот что попало: резались зубки. Несмотря на это, с прежним аппетитом сосал материнскую грудь, вместе с братом.
Бабушку схоронили. Не стало больше прогулок к реке, когда Ирочка держалась за теплую бабушкину руку. Да и некогда стало гулять: то в лавку надо сбегать, то переодеть Мотю, то укачать младенца.
Но детство оставалось детством.
Когда Андрюша улыбнулся в первый раз, сестра была рядом. И с тех пор улыбался всякий раз, когда она брала его на руки. «Ишь, приворожила», — одобрительно посмеивалась Матрена. А он продолжал ей улыбаться и потом, спустя десять и больше лет, иногда только глазами.
Всего год разделял братьев — и он же сблизил их до полной неразлучности. В четырех-пятилетнем возрасте их со стороны принимали за близнецов, только Андрюша был не такой щекастый, как Мотя, и более подвижный. Когда они засыпали рядом на большой кровати, их можно было отличить не иначе как по затылкам: старший был брюнетом, а на волнистых Андрюшиных волосах словно солнечный луч застыл.
…Интересно, что только у старших, Иры и Моти, волосы были черными. У среднего брата они так и остались рыжеватыми, Тоня была русоволосой, а младший и вовсе родился белокурым, чтобы, как многие ему подобные, стать с возрастом шатеном. Правда, еще самая последняя девочка, красавица Лизочка, родилась смуглой и черноволосой, да всего две недели прожила. Казалось, что с каждым следующим ребенком слабеет цыганская кровь отца.
Однако на характеры детей это никак не распространялось.
Самыми сдержанными были старшие. Тоня, обладая трезвым и практичным умом, всегда была вспыльчива, а Симочкин характер нельзя было назвать иначе как буйным.
Андрюша, находясь посредине между «кроткими» и «гордыми», как их определил отец, был самым закрытым и непонятным. В детстве не разлучался со старшим братом, а потом — никто не заметил даже, когда это случилось, — вдруг перерос его, вытянувшись по сравнению с коренастым и плотным Мотей. Что-то совершилось внутри него, отчего изменилось и стало взрослее лицо. Проявилось это, когда, в отличие от старшего, Андрюша сразу начал легко выговаривать букву «р». Тогда они словно поменялись ролями. Мотя легко и естественно признал превосходство брата. Это он первый назвал Андрюшу, в тщетной попытке выговорить злополучную букву, «Андыя»; с тех пор Андрюша и для всех стал Áндрей.